Владимир Шмерлинг
ЮГОСЕВЕР
очерки
1931, Москва, Ленинград
Государственное издательство художественной литературы
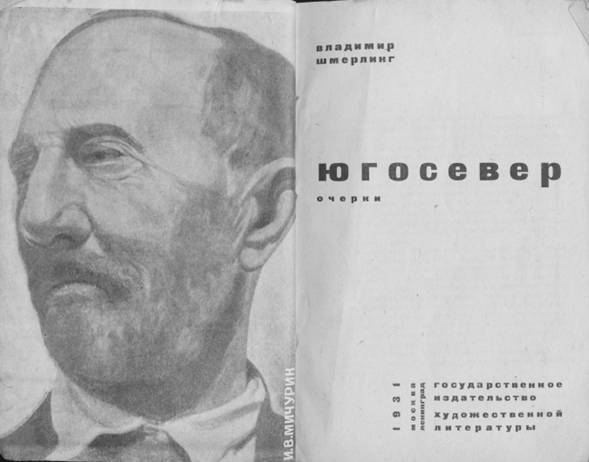
* * *
Быть может, ни в чем так ярко не сказалась прогнившая бездарность буржуазно-царского строя, как в судьбе Ивана Владимировича Мичурина: за его гениальные работы царское правительство ему назначило орден и пригласило служить в... канцелярии.
Только советская власть предоставила Мичурину все возможности для его изумительных работ.
Еще от старого режима, как отвратительное наследие, осталось то, что Мичурина не знают, не знают колоссального значения его работ. Только в последние годы сведения о его работах, их значении, о его биографии широко стали разливаться по Союзу. В Козлов потекли потоком экскурсии, посетители. Книга Владимира Шмерлинга сыграет прекрасную роль: Ивана Владимировича Мичурина и его работы должен знать и уметь ценить каждый гражданин великого Союза.
Чем дорог, чем близок Мичурин нашему социалистическому строительству? Тем, что, как правильно указывает Владимир Шмерлинг, он не похож на Бербанка: тот из тысяч, десятков тысяч особей вылавливал нужные ему сорта и виды, не меняя обстановки, среды, климата, в которых они создались. И.В. Мичурин же с изумительным искусством создает новые сорта, новые виды с таким расчетом, чтобы они могли произрастать в суровых условиях нашей страны. Эти новые сорта и виды он несет в самую гущу населения, эти великолепные мичуринские плоды будет выращивать и потреблять крестьянин и пролетарий социалистического Союза, а не доставлять за тридевять земель, как это было до сих пор.
Вокруг И.В. Мичурина зреют и наливаются молодые силы. Как это прекрасно: удивительный старик бросает семена не только в почву, но и в умы!
"Югосеверу" Владимира Шмерлинга — самое широкое распространение!
А. Серафимович
* * *
Старик с палочкой
— Аркашка, лодку!
— Аркашка! Аркашка! Аркашка! — кричат вместе со мной на берегу человек, страдающий одышкой, и девочка с косичками.
Наконец медленно «на горизонте» появляется «судно» Аркашки. Гребет он только одним веслом, при чем от весла остался только обломок.
Аркашка причаливает к берегу.
Его «посуда» переживает тревожные минуты. Ни она, ни человек с одышкой не могут найти равновесия. Аркашка же относится к этому весьма равнодушно.
Наконец он выгружает свой транспорт и скрывается в камыши.
— Аркашка! Аркашка! — несется над рекой.
Вхожу в калитку. Иду по дорожке. Смотрю под ноги. Опилки и стружки. Сзади бежит собачонка. Кажется, желтая.
Поднимаю голову. Надо мною скворешник. Скворцов не видно.
Смотрю прямо. Крылечко. Скамейка, — на таких обыкновенно грызут семечки. Гуляют куры.
В бочке с водой и пылью плавает, как масло, кусок рогожи.
Окна в доме занавешены. У одного окна закрыты ставни.
Иду дальше. Надо мною деревья. Дорожка ведет в сад. Собака догоняет меня. Она начинает лаять. Я ускоряю шаг.
У сарайчика сидит старичок. Что-то чертит палкой по земле. Не замечает меня.
Я говорю: «Здравствуйте!». И еще раз —«Здравствуйте!» Он продолжает чертить, но потом вдруг резко вскидывает голову. Он далеко не добродушен.
— Тебе ;чего?
— Я к вам, Иван Владимирович... (да, это он).
— Ко мне? Да отвяжись ты! Чего тебе нужно!.. — и попрежнему чертит своей палкой по теску, как будто я совсем не существую.
— Иван Владимирович, я к вам приехал из Москвы, Тогда Иван Владимирович делает движение, точно проглотил гнилой орех, и кричит глухо, но громко.
— Паш! Паш! ; «Неужели выгонит?» — думаю я.
«Паш» появляется не скоро.
Может быть, даже скоро. Но старик молчит, свернулся, как улитка. Я .приготовил столько слов, таких умных и таких... и вот...
Наконец Паша вылез из кустарника. Извяняюсь, для меня он не Паша, а Павел Никанорович Яковлев. Но его имя и отчество и все прочие подробности я узнал несколько дозже, когда произнес ему то, что должно было быть написано на моей визитной карточке, которой у меня нет.
— Что он ко мне пристал? — спрашивает Иван Владимирович.
— Это они из Москвы ;приехали, писать о ва:с будут, мы уж раньше списались, это они...
— А! Болтологией занимается. Дурачья штука! Да что ты поймешь в .моем деле? Врать только будешь! Эх, вруны, вруны!, — и Ивай (Владимирович смерил меня взглядом. Я обрадовался. Наконец «заметили».
— Ну, смотри, надоедать будешь — прогоню; так и скажу: пошел к чертям.
— Ничего, Иван Владимирович, не прогоните, — выступил я смелее.
— Что, это ты о чем?
— Говорите громче,—.шепнул Яковлев.
— Ну, пойдем, — поспешил Иван Владимирович и вошел в сарайчик.
Он сел, а палочку поставил в сторону. Держал свою голову прямо и глядел вперед, не обращая на нас внимания.
У него морщинистое лицо. Весъ он как будто сложен из углов. Густые черные, наполовину седые брови. Глаза смотрят далеко. Должно быть, когда-то они были очень ясными.
Он долго глядел. Шевелил пальцами, точно мял мякиш, и наконец заговорил, как бы обращаясь не к нам.
Я слышал его голос, но он не был таким, как прежде. Этот голос — с раскатами, глухой, но иногда тягучий, будто смазанный. Слушал, потом взял карандаш и начал тихонько, так, чтобы он не видал, записывать его слова.
_______
В день пятидесятилетнего юбилея Мичурина по городу были развешаны плакаты:
Первый плакат:
МИЧУРИН ИЗ ТЕХ, КТО НАУЧАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПОБЕЖДАТЬ ДО СИХ ПОР НЕПОБЕДИМОЕ.
Второй плакат:
МИЧУРИН ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ
БОРЦОВ ЗА РАСШИРЕНИЕ ВЛАСТИ НАД ПРИРОДОЙ,
ОН ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ ЭРУ В РАСТИТЕЛЬНОМ ЦАРСТВЕ.
Третий плакат:
НОВЫЕ МИЧУРИНСКИЕ СОРТА ЯВЛЯЮТСЯ МОГУЧЕЙ ПОДДЕРЖКОЙ КАЖДОМУ КРЕСТЬЯНИНУ.
Четвертый плакат:
МИЧУРИН ПЕРЕНЕС КРЫМ В ТАМБОВСКУЮ ГУБЕРНИЮ.
Пятый плакат:
ВЫВЕДЕННЫЕ
МИЧУРИНЫМ: ГРЕЦКИЙ ОРЕХ, АЙВА, ВИНОГРАД, АБРИКОС, МИНДАЛЬ,
ЧЕРЕШНЯ, ШЕЛКОВИЦА, РЕНКЛОДЫ, ДЮШЕСЫ И ДРУГИЕ ЮЖНЫЕ РАСТЕНИЯ —
АБСОЛЮТНО ВЫНОСЛИВЫ В ОТКРЫТОМ ГРУНТУ СРЕДНЕЙ РОССИИ,
БЕЗ ВСЯКОЙ ЗАЩИТЫ НА ЗИМУ.
Было еще много и других плакатов. Последний плакат:
ИЗНЕЖЕННЫЕ БУРЖУИ В РАСТИТЕЛЬНОМ ЦАРСТВЕ НАМ НЕ НУЖНЫ.
Это любимые слова Мичурина.
Родился он в 1855 году.
Ворота в года
Передо мною не плывут берега.
Не мелькают люди, говоры и обычаи.
Передо мной карта одной человеческой жизни.
Это было очень давно, так давно, что не надо вспоминать
дату. Мичурину было два-три года. Отец держал его на руках. По
 небу
шла комета.
небу
шла комета.
Отец приподнял Мичурина на вытянутых руках.
Комета была на севере.
— Вон так... — показывает старик Мичурин. — До половины неба. Помню, мне очень хотелось достать рукой до кометы.
...Старинная фотография. Как будто гравюра мастера. Мальчик весь в белом. Одет казачонком, — над сапожками нависли шаровары. Вид воителя. Гордо опирается о спинку стула!. Это маленький Мичурин. Первыми его игрушками были яблоки и груши. Он играл ими, как кеглями. Отец днями пропадает в саду. Дед гордился своими «особенными грушами». Это было в Калужской губернии. Теперь в Калужском округе осталось только одно название «Мичуринских груш»...
— Память у меня была хорошая. Я никогда уроков не учил. И вое оттого, что отец мой, когда мне было четыре года, ку пил грифельную доску. Прочтет мне из книги, а потом велит писать мелком — своими словами. Меня готовили в лицей. Но лотом отец не захотел. Он у нас упрямый, отец, был. Когда он умер, мы лишились последней земли. Ну, и шут с ней. Да... Потом, в 1875 году, приехал я в Козлов. (Женился на мещанке. Тогда этот позор был, дурачья штука. Женился, да, ну, наследства-то меня и лишили. С того времени занялся я садоводством.
...Мичурин перевертывает альбом.
 Усталое,
задумчивое лицо. Гаршинские .глаза. Молодая бородка.
Железнодорожная тужурка ,с медными пуговицами. Такие
фотографии висят в музеях революции, таких снимков много в архивах жандармского
управления.
Усталое,
задумчивое лицо. Гаршинские .глаза. Молодая бородка.
Железнодорожная тужурка ,с медными пуговицами. Такие
фотографии висят в музеях революции, таких снимков много в архивах жандармского
управления.
Но Мичурин не шел в ссылку.
Он щелкал костяшками в Козловской конторе товарной станции Рязано-Уральской железной дороги.
За соседними столами работали другие конторщики. Они работали молча. Уходили и приходили на службу. Среди них был и князь Петр Алексеевич Кропоткин.
Мичурин уходил домой. И только тогда начинал работать без медных пуговиц и костяшек. Работал не за столом, а на грядках.
Их было немного — грядок — в мичуринском саду на Московско-Вокзальной улице, за домом булочника Сушкова.
Мучные лабазы, мучные обозы и сушковские, знаменитые на весь Козлов, калачи. Цветочная пыль боролась с мучною.
Мичурин работал на грядах. Он испытывал «притяжение к земле» больше, чем другие козловцы.
Конторщики приходили в трактир напротив. С вечера играл орган. Орган заглушали пьяные голоса. Биллиардные шары разбивали окна.
Мичурин сидел, окруженный сельскохозяйственными журналами. В углу восседала жена. Жена — мещанка. Жена, из-за которой отказались от Мичурина его дворянские родичи. Так проходили сутки.
...Начальник дороги проезжал через Козлов. Он был милостив и в хорошем настроении. Разговаривал со служащими.
— Ты дворянин и ты -конторщик, — задумался он над Мичуриным.
Мичурин перестал сидеть в конторе.
В его распоряжение были отданы все часы на всей дороге. Он стал хранителем точного времени.
Маятники забили на Московской улице. В пружинах и колесиках Мичурину жилось легче, чем в конторе.
Он стал откладывать деньги. Сдавал подряды другим часовщикам. Так получил себе положение в жизни.
Жена радовалась. Козловцы приходили к окну мастерской и в дни, когда не было гастролей карликов или великанов, любовались первой в Козлове электрической динамо-машиной часовщика Мичурина.
От стрелок: и циферблата он уходил на грядки.
Проводники привозили из Ростова дюшесы и виноград. Сушеные финики продавались в магазинах. Жареные семечки—на каждом углу.
Мичурин читал в журналах статьи профессора Грелля. Грелль доказывал. Грелль убеждал. Призывал акклиматизировать в Средней России лучшие иностранные сорта плодовых растений. Русские садоводы засыпали заказами иностранные фирмы. Мичурин ухаживал на козловской земле за нежными пришельцами с юга Франции.
Другой козловский житель — юрист без практики, инженер без диплома — изобретал новый сорт сапожной ваксы. Эта вакса должна была поставить мировые рекорды и принести изобретателю несметные богатства.
На ваксу не должна была садиться пыль. Она не имела права покушаться на блеск ботинок. Гарантия на год. Вы чистите ботинки, или сапоги, или туфельки только один раз в год. Кожа — шевровая и хромовая — блестит как медный таз; лаковая — как купол под солнечными лучами.
Один хотел питаться обязательно козловскими дюшесами; другой изобретал целомудренность чистогы обуви.
Город не обращал на них внимания.
Город щелкал семечки и шлепал по лужам.
В царские дни чадили плошки. Козлов знаменит плошками и пожарами. В центре города — гостиные ряды и рынок. Все перепачкано мукой. Запах бани. В единственной козловской бане и мылись, и стирали белье.
На буро-желтых полицейских будках красовался герб города: бородатый козел.
Козловские купцы, конские барышники и лабазники, жили сытно — по законам «всероссийского Замоскворечья».
Через Козлов гнали, как по этапу, лошадей и быков. Англичане выстроили знаменитые бойни. По воскресеньям купцы катались по Московской улице, хвастая рысаками. Ночью караулили мучной город сторожа-инвалиды.
По вечерам в городском саду устраивались гулянья, жгли фейерверк; когда же надрывался колокол на каланче, —гуляющие сбегались любоваться продолжением фейерверка. Редкий день не горели как будто нарочно для огня выстроенные дома.
Козел царствовал на гербе города Козлова.
Козел гордо тряхнул бородою, когда через Козлов стали проходить не только быки, но почтовые, товарные и курьерские поезда. Козлов стал рыцарем на распутье трех железнодорожных линий. Он не раздумывал, извлекая прибыль и товары.
Мичурин починил все часы. Поезда приходили без опоздания. Точь-в-точь в назначенную минуту и секунду.
В Мичуринском садике росли и томились французские ренклоды. Им было тесно на клочке земли, среди козловских улиц, политых пылью.
Вдвоем с женой Мичурин переносил, как фарфоровые чаши, свои растения за город, на купленные им гектары луговой земли. Он расстался с маятниками и железной дорогой. Освободил себя для того, чтобы навсегда стать пленником плодов и грядок.
«Иностранцы» плохо росли на козловской почве.
— Любимые экземпляры выкидывал из сада! А досаднее всего: ходишь, ходишь за иным, — первый, второй год растет хорошо, думаешь—окреп, мерзавец, сроднился с местностью; ан, глядъ, на третий год при тех же условиях вымерз до корня! Что делать? Скрепя сердце выкапываешь и выкидываешь, а .на его место достаешь растение уже из другой местности. Думаешь, оно будет выносливее, но не тут-то было, — опять та же история! Работать приходилось с завязанными глазами, — рассказывает Мичурин.
...Изобретатель изобретал ваксу. Он все еще боролся с лылью. Мичурин выкинул из грядок растения, за которыми ухаживал годами.
Провинциальный чудак! Да, у чудака плакали денежки, часы раздумий и труд. Как будто в доме кто-то умер.
В козловских магазинах попрежнему в окнах нагло красовались привозные дюшесы.
...Весною город Владимир облит молоком.
Цветет знаменитая ...владимирская.
Поспевает вишня. Сторож стоит на вышке и дергает веревки, как будто звонит в колокола. Но не слышно звона. В его руках веревки и проволока, прикрепленные к изгородям и верхушкам деревьев. Иногда сторож кричит и свистит, засовывая два пальца в рот.
Он охраняет вишни от набегов птиц. Птицы опустошают сады.
Владимирская вишня, антоновка и груша-бессемянка — «славный» треугольник российского плодоводства.
Мичурин объезжал сады. Антоновка и бессемянка. Всюду одно и то же. Владимирская вишня в какой-нибудь Курской губернии. Мелкие ягоды. Заграничные растения жиреют и не свыкаются с климатом. Они принесли с собой в сады болезни и вредителей. Однообразные и нищие сады!
Мичурин помнил: когда-то в доме случился пожар. Народ сбежался «глазеть». Рвали вишни и тут же выплевывали косточки, втаптывали их ногами в землю. Через год, весной косточки взошли.
«Новые сорта плодовых растений не могут выходить из семян», — так писали в учебниках садоводства и плодоводства.
Мичурин начал выращивать новые сорта из семян. Отрекся от всего, что делал раньше.
Редактор журнала «Русское Садоводство» получил статью Мичурина. Он писал ;о том, как разводить вишни черенками. Грелль наложил резолюцию: «Мы печатаем только правду».
Через несколько лет неправда Мичурина стала правдой. В Козлове зацвели .миндаль и персики. Они не боялись больше морозов. Статьи Мичурина начали появляться в журналах.
Из Америки он получил приглашение от Департамента земледелия.
ОГРОМНОЕ ЖАЛОВАНЬЕ. ПЛАНТАЦИИ. УЧЕНИКИ И ЛАБОРАТОРИИ. ПАРОХОД В ПОЛНОЕ СОБСТВЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ. АМЕРИКАНЦЫ ХОТЕЛИ ПЕРЕВЕСТИ МИЧУРИНА СО ВСЕМИ ЕГО РАСТЕНИЯМИ, ДОМАШНИМ СКАРБОМ, СОБАЧОНКАМИ. МИЧУРИНА ОЧЕНЬ ЦЕНИЛИ АМЕРИКАНЦЫ.
Садовод был доволен. Не потому, что он поедет в Америку, Об этом он и не думал. Но он получил признание. Его работы ценятся.
Здесь же Мичурина... тоже «заметили».
И вот приехал чиновник. Он был очень любезен.
— Покажите, что это прислали вам из Америки.
Мичурин показал. Чиновник свернул приглашение и заявил:
— Не сметь ехать.
Мичурин рассердился:
— Вы что повышаете голос, я никогда не судился.
— Хорошо. Дайте цепь землемерную, дайте рулетку. Чиновник смерил мичуринский сад и быстро уехал.
Вскоре Мичурин получил два ордена: «Анны 3-й степени» и «Зеленый Крест» за успехи в сельском хозяйстве. Он положил ордена в коробочку с ватой. Так о<ни лежат в ней и до сих пор. На этом КОНЧИЛИСЬ «МИЛОСТИ» ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Город не знал об успехах загородного жителя. Вот если бы получили приз его рысаки, или разбогател он на сделке с быками... Но у Мичурина не было рысаков. С женою целыми днями работал он на грядах. В саду были злые и зубастые собаки. Мичурин не вылезал из своей «садовой» берлоги. Редко кто его навещал. Мичурин забыл о городе, городу нечего было забывать Мичурина, — о нем и так там никогда не помнили.
Денег у Мичурина не было. И вот он стал продавать свои яблоки и груши. Они поражали своими размерами. Козловские купцы получили новую диковинку. Город заинтересовался Мичуриным. Действительно, какие яблоки, весят шестьсот граммов. Вот чудак, чего придумал! Мичурин вошел в моду. В городе, где нет достопримечательностей, его начали разглядывать.
«Ах, как надоедают люди, не имеющие никакого практического опыта. Получаешь от кого-либо из них послание. Трудно даже узнать из подписи фамилию автора, только по штемпелю видишь, что эта, составленная в крайне вежливом тоне, исписанная вдоль и поперек открытка прислана от кого-либо из заведующих казенным заведением.
«Читаешь и удивляешься нахальству, а главное — полной безосновательности требований, изложенных; в зтой открытке. Например, в роде такого содержания: «Прошу немедленно выслать образцы растений новых сортов», или «вышлите все ваши работы по гибридизации, мне они нужны для справок», или — «скажите, пожалуйста, не замечали ли вы что-либо общего между поврежденными раскаленным железом глазами птиц и таковыми же повреждениями почек», — так писал в своих записках Мичурин.
Инспектора и посетители. До ночи Мичурин отвечал на письма. Но вот еще один инспектор познакомился с делом. Инспектор был молчаливый. Осмотрел все и говорит Мичурину:
— Пишите заявление, чтобы правительство помогло. Мичурин написал. Инспектор Марфин отвез бумагу в департамент. Там над ним посмеялись и заявления не приняли.
 Марфин
заявил:
Марфин
заявил:
— Если не обратите внимания на Мичурина — я служить больше не буду.
— Это вы можете, — ответили Марфину и уволили его.
Мичурин перелистывает альбом. Показывает еще одну фотографию.
Он сидит у моря. Но тут же гардины и точеный столик. Он одет франтом. Красуются манжеты и цепь от часов. Мичурин похож здесь на запоздалого молодящегося жениха. Вот что сделал с ним фотограф в центральном козловском электрофотопавильоне. Но у этого жениха-франта уже давно умерла жена. Жених-франт был очень одинок и нелюдим. Изредка с кем-нибудь из старожилов он раскладывал пасьянс.
...На станции случилось событие, взволновавшее город. Кто-то стащил станционный колокол. Первый. Второй. Третий. Поезд отошел от дебаркадера без звонков. В городе появились беженцы и раненые.
Мичурин писал:
И что же, в результате тридцатитрехлетнего труда, после выведения многих, повидимому, ценных новых сортов растений, — почти ноль внимания со стороны общества и еще менее от правительства, несмотря на неоднократные мои заявления по этому делу. А уже о материальной поддержке и говорить нечего, — этого в России для полезных дел не дождешься никогда. И вот в конце концов дело гибнет, питомник запущен, две трети новых сортов частью погибли, затерялись за отсутствием должного ухода, за недостатком свободного места, а частью рассеялись по различным покупателям в России и за границей, откуда к нам вернутся под другими именами. Энергия и здоровье ослабли, и волей-неволей приходится расставаться с любимым делом, и хотя постепенно (потому что многие растения только входят в пору плодоношения), но совершенно ликвидировать дело.
В 1917—18 годы Мичуринский питомник запросто намеревались выкорчевать и засадить капустой или картофелем.
Но Мичурин не растерялся. В то время еще не устраивались диспуты об аполитичности. Вот какими словами садовод встретил революцию.
Лишь было бы искреннее желание работать для общей пользы, вести дело по пути прогресса, а не цепляться за старые формы жизни и толочься на одной месте, нюнить о вчерашнем дне. Мировая жизнь безостановочно идет вперед, и задержать это движение не может никто, а все искусственно поставленные тормоза, да и с инициаторами их, будут неизбежно сметены.
Генерал Мамонтов наступал на Козлов.
Мичурин, как и многие козловские жители, первый раз в жизни слушал гул орудий и пулеметную трескотню.
Мичурин был один на своем острове.
Позже к нему прибежали из города коммунист и еврей. Мичурин не видал уходящих обозов. Он не прятался в подвал.
...Была урожайная осень, желтая, как лимонные корки. В саду наливались яблоки. Мичурин ходил, как всегда, с палочкой по саду. Листья толпились к его ногам. Город затих и покрылся пыльным туманом. К вечеру в сад ворвался отряд казаков. Они ворвались к Мичурину как бы из другого столетия. Он хотел натравить собак, но потом вышел и стал у калитки.
Казак толкнул старика. Мичурин прижался к калитке.
На лодке через Лесной Воронеж он увидел жерло пушки. Мамонтов хотел с мичуринского острова бомбардировать Козлов. Сейчас колеса уничтожат все. Казаки увезут полные картузы фруктов.
Мичурин лег у калитки. Его не могли оттащить. — Жидов у тебя нету? А ну, пусти, посмотрим...
Но вот лодка отчалила. Сжалились над старикашкой, тем более , что разведка нашла более удобное место.
Мичурин сидел с собаками у входа в сад всю ночь. Он видел зарево над городом. Слушал шум.
История ворвалась в Козлов.
Громили лавки и склады. Мамонтов устроил фейерверк пожаров, каких еще не видывал город. Взрывались мосты. Громили товарные составы. Растаскивали керосин из цистерн. Какой-то человек с бидоном упал в цистерну. На него не обращали внимания, и он утонул в керосине.
На Московской улице, у булочной Сушкова, валялась в пыли готова старого часовщика-еврея. Рядом виднелись растоптанные лепестки роз. Старик надел фрак, послал к Мичурину за розами и вышел встречать Мамонтова к заставе. Его голову казаки перебрасывали друг другу — с пики на пику.
НО ЭТИ МУКИ (БОЛЬШЕВИСТСКИЕ МУКИ) ПОЧТИ МИНОВАЛИ НАС: БЫВШАЯ РУССКАЯ СТОЛИЦА ПЕТРОГРАД ЗАНЯТА СОЮЗНЫМИ ВОЙСКАМИ, А НАШИ ОСВОБОДИТЕЛИ, ДОНСКИЕ КАЗАКИ, ИДУТ К СЕРДЦУ ЗЕМЛИ РУССКОЙ-К МОСКВЕ!
Так врал генерал-лейтенат Мамонтов в выпущенной им газете «черноземная мысль».
Деникинцы так же неожиданно исчезли из города, как и появились.
Мичурин не покидал питомника. Жизнь катилась мимо него...
Позже появился Горшков. Он спал в городском саду на скамейке и служил уездным инструктором садоводства. Про Мичурина опять забыли. Где-то за городом ворочается старик, какой-то у него огород чудной уцелел. Горшков вспомнил. Он пришел к Мичурину. Давно старика не навещали «инспектора».
Инспектор ходил в дождливые дни в одной косоворотке. У него странная привычка — любил вбивать гвозди. В его карманах всегда были склады гвоздей. В руках он вертел молоток. Сидит, докладывает и так сосредоточено вбивает гвозди.
— Что за дурачья штука — мне табуретку портить, — рассердился Мичурин и подружился с Горшковым.
Горшков не раздумывал. Откуда-то ему удалось добыть изгородь, поставили изгородь. Потом он начал хлопотать. И вот первый раз в жизни Мичурин получил деньги от государства. Он испугался. Что с ними делать, как вести отчетность? Горшков удивлялся — странный садовод! Удивлялся и пошел пешком (поезда не ходили) относить в Тамбов назад деньги. После он сам ездил и хлопотал о получении денег, представлял сметы и расчеты.
Так подошло время Первой Сельскохозяйственной выставки в Москве. Горшков спешно заколачивал ящики. Рот и карманы его были полны гвоздей. Почти тайком от Ивана Владимировича упаковывал он мичуринские фрукты и отправился с ними в Москву.
Мичурин сердился. Это же плохие фрукты! У него бывали куда лучше: «Везет он меня на позор!»
Весь Союз был свидетелем мичуринского «позора». Яблоки, виноград и груши красовались на снимках. Их осматривали эксперты. Горшков давал пояснения.
Так в Москве в 1923 году был открыт Иван Владимирович Мичурин.
С грандиозными планами вернулся в Козлов Горшков. Приближался юбилей Мичурина. О нем знали все, кроме его самого. Юбилейная комиссия скрывала свюе «преступление». Наступила торжественная дата. Из центра съезжались делегаты.
Юбилей — «мрачная» страница мичуринской жизни:
— Прислали за мной автомобиль. А я говорю: «Идите к чертям! Что я — пешком не дойду!» Комсомолец вместо меня на автомобиле поехал. А я потихоньку с палочкой. Не хотел итти. Но, говорят, крестьяне приехали. Подхожу к театру. Стоят красноармейцы. Да как — на караул! Я не знаю, что им честь отдавать или фуражку снять надо. А в театре, гляжу, ни одного крестьянина нет. Все в пиджаках сидят. Мне говорят: «у нас крестьяне в зипунах не ходят». Сижу на сцене. Подходит один, говорит. Да, да. Другой—тоже самое. А потом лезут целоваться. Чорт послал радость с тобой целоваться! Сидел я, сидел. А я ведь с глушинкой, так и «Интернационал» прозевал, в шапке сидел и не встал, и вообще чувствовал себя неловко. Растеряешься тут, когда на тебя глаза пялят. Дурачья штука! Теперь они меня не обманут с юбилеями. А если праздновать, так уж юбилей сорта. «Бере Зимняя Мичурина» — отличная груша, — вот это я понимаю. Слышь, самое главное — улучшить сорта. Ты мою мысль запомни.
И Мичурин меняет тон, говорит несколько торжественна, как будто на юбилее.
— При вмешательстве человека возможно вынудить каждую форму животного или растения более быстро
изменяться, и притом в сторону, желательную человеку. Надо понять, что для
человека открывается обширное поле самой полезной для  него деятельности: улучшать и создавать новые
формы садовых, лекарственных и технических растений. Это, слышь,
послужит самым сильным рычагом к поднятию благосостояния человечества. Понял?
него деятельности: улучшать и создавать новые
формы садовых, лекарственных и технических растений. Это, слышь,
послужит самым сильным рычагом к поднятию благосостояния человечества. Понял?
Во время юбилея Злобин — старичок-лудильщик — преподнес Мичурину стихи:
Полвека скромно ты трудился,
Природы тайны изучал,
У ней премудрости учился
И флоры породы новые рождал.
Ты за границей не учился,
Не слушал лекций нигде
Но на клочке земли возился,
И ум помощник был тебе.
Ты на Выставку явился,
Показал свои многолетние труды,
И народ твоему таланту удивлялся,
Любуясь на небывалые ягоды-плоды.
Мичуринский сад
Еще спят собачонки и Аркашка. Луга потеют росой. Мичурин выходит из дома.
Он застегивает тужурку. Потом идет в сад. В руках у него садовые ножницы. Как будто не смотрит. Но вот прицеливается без мушки, отодвигает кусты и срезает сухую ветку. Вот остановился.
Присел на корточки. Достает карандашик. Отряхивает землю, приставшую к коленям. Я не знаю ни латинского, ни русского названия цветка, у которого стоит Мичурин. Не понимаю, что он разглядывает, точно глаза его микроскопы.
Так, передвигаясь от цветка к кусту, уходит Мичурин в глубь сада, где пропадает дорожка и кусается крапива.
В таких садах качаются в тени на гамаках. В таких садах при необтесанных досчатых столах варят варенье.
Сад старый, как кора дуба, как морщины Мичурина.
Я вспоминаю, одного посетителя с фотографическим аппаратом. Он как будто дашел с плаката рекламы дорожных костюмов. Яковлев, потный и босой, в панамке как у мальчика, водил сего по дорожкам. Тот все спрашивал:
— Где же, наконец, сад, где фонтаны, полуяблоки и полугруши? Где теплицы, парники, оранжереи?
Ничего этого нет в мичуринском саду.
Он сер и провинциален, как Козлов.
В дождливые дни сад скучен, как старые облезлые штиблеты, как царапанье по стеклу. Но часто и в эти дождливые дни, когда так пахнет жимолостью, сад оживляется без радуги.
Яковлев подходит к кусту и говорит речь.
Тогда сад перестает быть садом. Он становится географической картой, тропиками и полюсами.
Сад превращается в аэродром для полетов мысли в будущее и утопию.
Директор Государственного опытно-помологического питомника имени И. В. Мичурина, Иван Владимирович Мичурин, раньше всех служащих Советского Союза выходит на работу. За ним в саду появляются садовницы.
У садовниц зеленые носы. Они боятся загара. Листья клена бронируют их от солнечных лучей.
Садовницы работают щипцами, граблями :и лопатами. Но очень часто в их руках бывают бинты, марля и медицинские пинцеты. Им не хватает только белых косынок и скорбного вида. Они не жалеют больных. Больные не стонут. Они тихо качаются на ветру.
 Целая
аллея марлевых колпачков. Цветки выглядывают из тюлевой вуали. Как будто и они
спасаются от солнца, только что перенесшие тяжелую и варварскую операцию. Их
кастрировали. Бутоны распускались и хотели благоухать. Но подошла садовница,
взглянула в лупу и смахнула желтую пыльцу с тычинок. Марлевые мешочки спасают
цветок от самоопыления. Ведь эти цветки будут искусственно опыляться пыльцой
других цветков.
Целая
аллея марлевых колпачков. Цветки выглядывают из тюлевой вуали. Как будто и они
спасаются от солнца, только что перенесшие тяжелую и варварскую операцию. Их
кастрировали. Бутоны распускались и хотели благоухать. Но подошла садовница,
взглянула в лупу и смахнула желтую пыльцу с тычинок. Марлевые мешочки спасают
цветок от самоопыления. Ведь эти цветки будут искусственно опыляться пыльцой
других цветков.
Мешочки плотно завязываются на побеге, чтобы не было отверстий для насекомых и ветер не занес посторонней пыльцы.
Собранная с других цветов пыльца осторожно, без дрожания руки наносится на цветки-кастраты.
Скрещивание произошло. Под марлевыми колпачками завязывается в цветке плод и начинает зреть.
Иногда даже колпачки кивают белыми бумажными наполеоновскими треугольниками. Они защищают от дождевых струй и росы.
...Ветер шумит в листьях. Груша обвешана, как гирями, плодами. Кажется, что вот-вог дерево не выдержит, и зеленые, тяжелые плоды пригнут его к земле. Но дерево не гнется, труши не падают. Земля не покрыта падалицей.
Это — одно из горделивых мичуринских растений. Его не трогают черви и плесневые грибки и двухрукие вредители в лице козловских мальчишек.
Груши на дереве твердые! и зеленые. Плоды добреют, когда проходит осень. Груша чернеет на снегу сухостью веток. Груши не на дереве, а в ящиках и корзинах становятся мягкими и янтарно-желтыми.
В 1903 ГОДУ в первый раз зацвело в мичуринском саду молодое деревцо УССУРИЙСКОЙ ГРУШИ. Ее лепестки не боялись весенних утренних заморозков, колючих, как ледяные сосульки.
Мичурин кастрировал Уссурийскую грушу.
Опылил ее пестики пыльцою груши Бере-диль.
Под марлевым колпачком завязывались плоды.
Мичурин посеял их семена.
Сеянцы давали плоды вкусные... как сырая картошка.
Мичурин не отчаивался.
Он ждал.
И вот в каком-то урожайном году груша дала плоды сочнее дюшесов.
Мичурин получил новый сорт:
БЕРЕ-МИЧУРИНА ЗИМНЯЯ.
Длинные товарные поезда обгоняют крымские экспрессы. Груши не боятся толчков и царапин. Они быстро зарубцовываются, засахаривая свои раны.
БЕРЕ-ЗИМНЯЯ МИЧУРИНА рождена для вагонов и платформ.
БЕРЕ-ЗИМНЯЯ МИЧУРИНА Какое длинное и тяжелое название!
Но есть еще более, тяжелое слово, оно акклиматизировалось в Козлове.
— Так, значит, эта самая груша будет гибридом. — Вот она, гибрида, собачья дочка, а сколько сюда удобрениев вложили, небось, сто пудов, да еще столько. Вот он — и гибрид!
Яковлев теребит ногой землю. Носок встречает сухой, как порох, песок.
— Никаких удобрениев.
Мичуринские питомцы, — это гибриды, их можно называть ублюдками и метисами, но эти слова к ним не подходят.
Слово «гибрид» пышно расцветает окающими и акающими говорами в мичуринскому питомнике1.
«Гибрид персика», — как это ароматно пахнет под козловским небом!
Часто в питомнике больше .людей, чем купальщиц на пляже в жару. Из каких только мест, из каких сел и полустанков не прибывают они в Козлов! Переселенцы ходоки, страстные садоводы, а часто просто бездельники, любители цветочных запахов и тени. Яковлев говорит, а у его слушателей текут слюни.
— Вот це плоды!.
— Дяденька, а на зубок они как?
— А если цвет какой понравится — рвать можно?
Лекция агронома
Яковлева
в коротком изложении и без примечаний
«Товарищи, не разбегайтесь в сторону. Без того, что я вам расскажу, вы не поймете мичуринской работы. Должно быть, всем вам известно животное мул. Мул— это ведь помесь осла и лошади. От мула не бывает, ну как бы его назвать, хотя бы муленка. Мул не дает потомства. А вот наши растения — гибриды — дают потомство. Сколько угодно можете разводить, выведенные Мичуриным сорта. Иван Владимирович доказал, что передаются в потомстве не только наследственные признаки, но и приобретенные. Сейчас я вам это поясню. Вот груша Бере-Зимняя Мичурина. Она сохраняется хорошо в зимней лежке. Как этого достиг Мичурин? Он воспитывает своих питомцев. Влияет на них окружающей средой: питанием, почвой и даже иногда электричеством. И изменения, вызванные в растениях внешней средой, передаются ими в потомство.
Растения слушаются Мичурина. Он с ними все равно как с глиной обращается.
Раньше он брал чужие, иностранные сорта и хотел их вырастить у себя в Козлове. Только деньги и труд ухлопал.
Потом он начал скрещивать иностранные сорта с нашими, местными. Думал, что .иностранные дадут гибриду качество, а местные — способность переносить наш климат. Не тут-то было! Местные сорта у нас с испокон-века растут, они часто сразу же побеждают при скрещивании все качества чужаков.
Тогда придумал Мичурин другой способ. Скрещиваем мы самые далекие сорта. Далекие, как южный и северный полюсы. Но не с полюсов нам растения нужны. Одно мы берем иностранное — нежное и культурное, обязательно с юга, другое же берем с тайги, дикое и привыкшее к морозам. У нас, в козловском климате, им одинаково не привычно. Но не быстро новый сорт получается. С некоторыми растениями Иван Владимирович годами мучается. Скрестим вначале. Получается плод. Мы его семена собираем и высеваем, растет гибридик молодой. А раз он молодой, — что младенец, — как воспитаешь его, такой гражданин и получится! Если упрямится, мы его сразу в переплат. Привьем его на какое-нибудь дерево, — грушу на яблоню, яблоню на грушу, — вместе питаются, друг другу свойства передают.
Что получится, если черепаху с крокодилом свести? Даже ерунды не получится. А мы в растительном царстве не считаемся ни с чем. У нас лимон на груше растет.
Бывают случаи, когда молодому гибриду мы прививаем взрослое растение. Оно придает ему нужное нам свойство. Это еще не все. Бывают случаи — ничего не выходит из скрещивания. Мы не торопимся. Даем сортам пообжиться. Привьем грушу на рябину, а рябину на грушу. А потом уж пыльцой с привитых и переопыляем друг друга.
Дело это сложное. Наука нам мало помогает. Да и не всегда нам верит наука, потому что дело-то наше новое. Тут большие знания нужны, чтобы знать, какие растения друг с другом повенчать надо.
Влияние одной части растения над другою называется методом «ментора». Этот метод является очень ценным для нас орудием власти человека над построением организма растений.
И еще должен я (вам сказать, что у нас в саду диковинок вы не найдете. Чудес мы не показываем. Имеем только практические цели: вывести новые хорошие сорта у нас в Средней России, которые раньше только на юге росли. ,Хотим мы также увеличить урожайность наших сортов. Заботимся, чтобы фрукт к перевозке был приспособлен да не быстро портился.
Раньше у Ивана Владимировича .была хорошая луговая земля за городом. Заметил он: на тучной почве многие гибриды слишком буйно растут и, не успев закончить роста, за зиму обмерзают, — тогда он без раздумья продает старый участок и в 1900 году переносит питомник на нынешний участок, на Донской слободе, с тощей песчаной почвой. «Изнеженные буржуи и в растительном щарстве нам не нужны», — вот эти слова особенно Иван Владимирович часто произносит. У него гибриды никогда не получают удобрения. Рыхления почвы также не производим. Несмотря на все это, растение чувствует себя отлично. Где крестьянину применить культурный уход за садом, о котором в учебниках пишут? Где ему возиться с разными удобрениями, перевалом почвы, опрыскиванием? Вот туг один товарищ спрашивал меня юб удобрении. Так тут объяснить надо. Наши растения растут, как говорят, в спартанских условиях. Мы их роскошью не балуем. Почва-то наша, сами видите, сухота одна. И растения У нас не для парков и клумб, а для крестьянского хозяйства.
И еще надо знать вам, что многие сорта стареют и постепенно вырождаются. Их следует заменять и пополнять новыми. Мы же в нашей стране пользовались все время случайно -выросшими сортами из брошенного семени в различных местах: в лесах, на огородах, в садах. Из таких, повторяю, случайно найденных деревцов с хорошими плодами и составились все старые ассортименты плодовых растений.
Вот тут среди вас из разных губерний люди имеются, так должен еще я вам сказать, что не всюду наши плоды хорошими будут. Ведь не везде климат одинаковый, а потому и наши сорта не везде прививаются. Нужно нашими способами у себя на месте тоже растения скрещивать. Ну, а зато в нашем климате, тамбовском и тульском, сортам мичуринским одно великолепие. Ну что, понятно? Когда сад обойдем, спрашивайте. На все ответ будет. Там на месте у каждого растения все понятно станет. Штука не мудреная. Итак, пойдемте.»
Экскурсанты извивающейся лентой, как ползучий плющ, торопятся по садовым тропинкам за ныряющей в листве «шляпой» Яковлева.
Из сада все возвращаются обычно с каким-нибудь незаметно сорванным цветком. Стараются сохранить его как можно дольше. Жаждут унести с собою побольше запахов «Помологического питомника имени И. В. Мичурина», или проще—старого приветливого сада. Их догоняют прощальные яковлевские слова и лай лохматых желтых собачонок.
Мичурин прячет улыбку.
Он подводит посетителя, будь то заслуженный профессор или крестьянин из района, к обыкновенной грядке. Как будто играет в дураки, — лукаво любуется козырями, зная, что не ему быть в проигрыше.
Профессор, только что рассуждавший о разных мудреных вещах, небрежно смотрит на грядку. Мичурин вскользь спрашивает:
— Ну, а это что за фрукг будет?
Профессор глядит внимательнее и произносит, точно пересыпает горох, звучные ученые латинские слова. Мичурин смотрит на него издали. Молчит.
— Ну, так это укроп!—решительно прекращает профессор свои раздумья.
— Укроп-то, может быть, и укроп, ну, скажу тебе, батенька, сам ты тогда укроп!
Профессор недоумевает, — что это чудит старик?
— Да это груша, груша, и больше ничего! — Мичурин смеется смехом победителя.
На грядке действительно растут груши, и при известном желании их действительно можно принять хотя бы за укроп.
Но мне они кажутся не укропом. Это модель кипарисовой рощи.
Деревца сделаны как будто нарочно, в шутку над природой. Они — как карлики. Но у карликов лица — по литературным традициям — злые и сморщенные, как яблоки, убитые морозом.
Деревья молодых сеянцев-карликов груш точно вырезаны алмазом. Их хвойный чертеж будто нарисован тушью, как на японских, чистых и легких, словно озон, рисунках.
В Японии такие деревья не только на рисунках.
Я не был в Японии, но знаю, — на скалах и в гористых садах
растут растения-пигмеи. Они пышны и похожи на букеты. Там
 деревья миниатюрны, как ножки японок.
Низкорослые пихты, камелии и вишни.
деревья миниатюрны, как ножки японок.
Низкорослые пихты, камелии и вишни.
Мичурин выписал карликовые вишни из гор Туркестана и Америки. Он скрещивал их с нашими вишнями.
Вишневые деревья — высокие. На Украине они шатрами укрывают белые мазанки. Трудно собирать плоды. Птицы клюют вишни.
В Америке уже лет десять как садоводы разводят деревья-карлики. Мичурин лет двадцать назад электрическим отрицательным током осаживал рост вишен.
Приземистых вишен многов питомнике. Четырех-вершковые «Гномы» и усыпанная вишнями, как рубинами, малютка «СЕРВИРОВОЧНАЯ». В цветном горшке растет она у Мичурина, не в саду, а на обеденном столе.
Деревьям-лилипутам нужна небольшая жилплощадь. Они забавны и прибыльны, урожайны и удобны. Садовая лестница может спокойно валяться в сарае или пылать в камине. Человеку легко бороться с вредителями. Когда же приходит урожай, плоды снимаются с дерева чистыми и непомятыми. Они дольше лежат в ящиках во время зимней спячки, они сочнее и свежей обычных.
 ...Айву воспевают персидские поэты. Весной
она усыпана белыми цветами, похожими .на чаши. Цветы
чуть-чуть отливают, розовым. Ясный закат одевает их в
пурпур.
...Айву воспевают персидские поэты. Весной
она усыпана белыми цветами, похожими .на чаши. Цветы
чуть-чуть отливают, розовым. Ясный закат одевает их в
пурпур.
У японцев в комнатах плоды айвы, похожие на груши, лежат на подстилках.
Ароматом айвы напоены и деловые немецкие колонии на волжских берегах у города Сарепты.
У немцев айва в почете, как коврики с ангелами, вскидывающими вверх руки, у кровати.
В почете айва и у Мичурина.
Он скрестил сарептскую айву с дикой кавказской. Гибрид называется — «Айва Северная».
Молодая айва пустила свои тонкие побеги, покрытые легким белым пушком.
Мичурин прививает черенки груш на Северную Айву. Не вое груши симпатизируют айве. Но вот молодые сорта постепенно привыкают к низкорослому айвовому деревцу. Айва формует карликовую грушу. Молодежь кажется скромной и робкой перед грушами, раскинувшими лениво свои ветви. На месте одного старого дерева может расти, и им будет свободно, несколько карликов.
Но зато какими карликами кажутся по урожаю старые груши перед карликами. Триста двадцать килограммов вместо шестидесяти пяти с одной и той же занимаемой площади. На карликах плоды крупнее, и сок их пропитан вкусным, как цукаты, айвовым ароматом. Карлики не боятся морозов. Их можно продвинуть далеко к северу за козловские широты.
Тут же рядом с мужественными грушами висят на 40 деревьях груши мягкие, воздушные, как тюль, как марлевые мешочки.
Стоит только ногтем поцарапать кожицу, и груша потечет соком, — очень нервная, капризная, сахарная груша! Она аристократична и породиста в сравнении с какой-нибудь твердокожей бессемянкой. Скромная провинциалочка — курносая бессемянка — мать этой нежной груши.
Яковлев торжественно несет две рюмки. Недостает только подноса с закусками. Мы подставляем рюмки под груши, наносим им раны, и густой сахарный сох с семянками, плавающими в мякоти, наполняет «сосуды .
— За ваше здоровье, товарищ Яковлев!
Закуска все же находится, — где то рядом, на соседнем дереве.
В зубах робко похрустывает еще не спелое яблоко. Конечно, яблоко. Я впадаю на минуту в детство. Закрыты глаза, как в жмурках. Так велел агроном. Но вот открываю глаза и вижу леред собой самую настоящую грушу.
— Мичурин вегетативно сблизил между собой яблоню и грушу .— объясняет мне плодовый укротитель.— Этот сорт называется «БЕРГАМОТНЫЙ РАНЕТ». Яблоки получили, как вы видите, форму груши. Вначале Иван Владимирович скрестил два сорта яблонь. Семечко посадил, с двухлетнего сеянца этого гибрида взял черенок и привил его на грушу. Яблоня росла на груше несколько лет. Но вот груша начала болеть. Пушистость листьев редела. Сорт становился диким. Тогда Мичурин пригнул грушу к земле, чтобы спасти яблоню от сухой гангрены. Закопал ее до места прививки молодой яблони. И тут яблоня пустила корни к земле. Начала великолепно расти, и когда созрели плоды, они стали походить на груши. Так, случайно, родился этот великолепный, выносливый сорт. Он урожаен, долго сохраняется зимой и вообще оригинален.
...В мичуринском саду есть яблони. Под ними опасаются заснуть садовые караульщики.
— А то проснешься с шишкой, а если в темя — жди век, пока разбудят, — и старый садовник Горбунов безнадежно свистит.
Плоды угрожают. Как будто не дерево, а висячий склад бомб. Эти яблоки-бомбы можно гладить, широко расставив ладонь. Когда-то они качались на медных ладонях мичуринских весов. Точный нес их — шестьсот граммов Некоторые весят около восьмисот. Про эти яблоки не скажешь в кооперативе: — Свесьте мне фунтик.
...В некотором царстве, в некотором государстве жил был крестьянин Антон. Ходил он, конечно, в лаптях и был у крестьянина Антона сад. А в каком саду не бывает ветра. Носил, уносил ветер пыльцу, и выросла у Антона яблоня, и назвали ее по Антону антоновской, так она антоновкой и осталась.
Антоновка. Трехкопеечные крестики. Лубочные картинки на сундуках. Огромные медные самовары. Блюдечко на вытянутых пальцах. Чай в прикуску. Антоновка — народная, заслуженная и почти единственная «расейская» яблоня.
Ее урожай пудами плавает в кадках и бочках.
Крестьянки выносят на станции ведра с моченой антоновкой. Эту яблоню нарядить бы в разноцветный платочек, с ушами узелков.
Антоновка болеет в паразитные годы антоновым огнем. Он сжигает живые ткани. Гангрену—человеческую болезнь, быструю как росчерк — тоже называют антоновым огнем.
Сады болеют обилием антоновки. Нужны новые культурные сорта. Древняя же антоновка не делится своими достоинствами с потомством. Шестисотграммовая антоновка щедрее и общительнее. Она родилась на одной тучной антоновской ветке. Эту ветку Мичурин и стал прививать на подвои других яблонь (привой — то, что прививают, подвой — то, на что призивают).
Сибирская холодостойкая яблоня, — сколько привоев было привито на ней! Ее уважал уважаемый профессор Грелль, но не садовод Мичурин.
БЕЛЬ-ФЛЕР—КИТАЙКА
БОРДСФОРД— КИТАЙКА
КАНДИЛЬ—КИТАЙКА
КУЛОН—КИТАЙКА
ПЕПИН—КИТАЙКА
ПОМОН—КИТАЙКА
ЧЕЛЕБИ—КИТАЙКА
ШАМПАНРЕН—КИТАЙКА
ШАФРАН—КИТАЙКА
Не пугайтесь, читатель, это не грамота «китайка» — это только название сортов. Эти «китайки» не китаянки. Речь идет о нашей садовой китайской яблоне, о яблочках небольших, как жолуди. От этой скромной яблони пошло «китайское» поколение мичуринских яблонь.
Яблоки созревают рано и опадают до зрелости. Кожица слишком нежна и тонка, не защищает от повреждений.
Китайская яблоня передает гибридам выносливость к-морозу, облагораживает вкус и окраску плодов. Бельфлер-китайка — яблоки так же красивы, как звучно название. Они как будто покраснели от стыда, но еще не успели покраснеть целиком — как веснушки на солнце, сияют крапинки на желто-золотистой кожице. Кандиль-китайка побивает крымские яблоки, выставочные синапы. Первый урожай Кандиль-Синапа был не ценней мухоморов. Синап оказался упрямым. Он не хотел скрещиваться с какой-то козловской китайкой. Как легендарный феникс, гибриды перерождались в сторону крымского предка.
Восемнадцать лет терпеливо работал Мичурин над новым сортом. В 1903 году плоды увеличились лишь на четыре грамма, в 1904 году на восемь, в 1906 - на... шестьдесят пять граммов. В 1929 г. ... и говорить нечего.
«Кандиль - китайка, первосортный сорт», — так значится в каталоге.
...«Комсомольцы» растут вперемежку с китайками. «Комсомольцы» очень старые.
Но яблоки не седеют. «Комсомольцы» — красные, как первомайские знамена, как багрово - красная свекла. Революционизировались «комсомольцы» не сразу. Мичурин скрестил красную яблоню Недзвецкого из Закаспийских степей с антоновкой. Гибриды дали побеги. Один бок ветвей побегов был облит как будто красными чернилами. Яблоня Недзвецкого передала им свое свойство, другая же половина не ушла далеко от антоновки. Затем красная окраска расползлась, как клякса, по всем ветвям, по всему деревцу
В земле красные корни. Весною «комсомольцы» цветут красными цветами. Сок красный, как кровь, семена — как сгущенные капли крови. Но какая вкусная эта кровь!
Но не так просто есть яблоки в мичуринском саду. Мичурин перещеголял Плюшкина, — был такой герзй у писателя Гоголя.
Мичурин не позволяет кидать семена. Он считает их, завертывает в бумажку, с пометкой карандашом, как будто это золотые монетки, которые он собирает в сберкассовские копилки. Для Мичурина семечко яблока ценнее золотой монеты. Из монеты не вырастет выведенный годами мичуринский сорт.
Но есть яблоки, их можно есть смело, без надзора. Мичурин не будет завертывать семена в бумажку. Яблоко лишено семян и семенного гнезда. Это не значит, что яблоко лишено других яблочных свойств.
Как это — яблоко без семян? Такие вещи писали в дореволюционные времена на оборотах семейных календарей. Это мясистое яблоко не по вкусу профанам, даже если они имеют звания и дипломы.
 Мичурин
в 1912 году скрестил яблоню «КОМСИН» с скрижапелем.
Плоды гибриды принимают наружную форму плодов по соседству растущей яблони
другого сорта...
Мичурин
в 1912 году скрестил яблоню «КОМСИН» с скрижапелем.
Плоды гибриды принимают наружную форму плодов по соседству растущей яблони
другого сорта...
Бельфлеры и Кандили. Плоды-бомбы. Весною цветут яблони, как будто с деревьев не сошел еще первый снег. Белые цветы выстраиваются в пейзаже с красным и розовым. И среди этого великолепия на деревьях растут мичуринские «репы».
Скоро у Мичурина на яблонях будут расти качаны капусты и зреть арбузы. Возможно. Пока же еще только репы.
Когда царский генерал привез Мичурину за труды орденок, была круглая дата мичуринской жизни.
Мичурин философски произнес про себя пословицу — «терпенье и труд все перетрут, даже самое крепкое здоровье», и назвал самый плохой вид своих яблонь «ЮБИЛЕЙНОЙ РЕПОЙ». Так и растет до сих пор презираемая репка маленькими неказистыми яблочками, да еще юбилейная!
...Над мичуринским садом возвышается колбаса аэростата. Она как будто хочет оторваться и поплыть в небо, как разноцветные воздушные шарики, но это не аэростат, а всего-навсего марля. Гигантский марлевый колпачок в метра три от земли. Он скрывает дерево пряморастущей ирги от хищнических набегов птиц.
У ирги — ягодки величиной в дробинку. Мичурину ирга нужна, как подвой для груш и яблонь, для карликового плодоводства.
Птицы — мухоловки, дрозды, воробьи, налетают на иргу, не считаясь с марлей. Они попадают в колбасу как в капкан (колбаса дрожит в тихую погоду, когда тишина принадлежит саду). Под марлей стрекочут дрозды, бьются между листьев воробьи, и качается над садом воздушная колбаса, так крепко ушедшая корнями, цепкими как якоря, в садовые гряды.
1929 года, марта 26-го, вторник. МАЛИНА ТЕХАС. Малину чудную
Техас в мыслях изображаю, дорогим гостем вместо вас, И. В., в саду иметь желаю.
Летами вам товарищ я — мне шестьдесят пять лет. Шлю тебе, Иван Владимирович,
сердечный свой привет. Гордость всей страны советской ты, наш гений! Наш
творец! Хотя старый ты кусточек пришли малины мне, отец. Если будете хоть
кустик мне малины посылать, то прошу я две-три почки у куста не отнимать. Рою
ямы я просторные, чтоб малине угодить, поднесу компосту к яме, постараюсь
посадить. Прошу, хоть веточку пришлите (Техас), рубля за полтора. Весна идет,
снег быстро тает, и сажать скоро пора. Так желательно на кустик хоть бы раз
один взглянуть, вдоволь им налюбоваться и навек потом
заснуть. До свидания, Мичурин! Жду малину, будь здоров. Шлет свои все пожеланья
вам
 крестьянин
Петухов.
крестьянин
Петухов.
Московской губернии и уезда, Коммунистической
волости. Дереьни Белениновка.
Алексей Иванович.
Мичурин бы мог завести .альбом с переводными картинками, как любая провинциалочка. Сколько стихов и куплетов написано о «МАЛИНЕ ТЕХАС».
По кусту прошелся малиновый дождь. Вместо града падали ягоды малины в полтора вершка. («Малина Техас» введена Мичуриным в плодоводство еще до введения метрической системы в государстве.)
Чем же понравилась крестьянину Петухоеу Алексею Ивановичу мичуринская малина? Это единственная из всех малин — железнодорожная малина. Не боится багажного вагона и километров. Великолепно чувствует она себя и в медном тазу на огне. Ягоды не развариваются. Они не расстаются со своей сердцевиной.
С куста «Техас» садовницы собирают шесть — шесть с половиной кило малины.
В каких только комбинациях не бывали мичуринские малины!
У земляники недостаток, что она слишком земляника. Пройдет дождь. Земляника, перепачканная и мокрая, вбита в землю.
Мичурин скрестил землянку с малиной. Листья у гибрида остались как у земляники, но зато получились высокие стоящие побеги.
Мичурин скрещивает малину с ежевикой. Ежевика колючей проволокой разбрасывает по саду шипы своих лоз. Они мешают полке и засоряют почву. К зиме побеги ежевики приходится пригибать к земле, покрывать одеялом соломы. Гибрид малины и ежевики плодоносит раз в год на однолетних побегах. Их не надо пригибать к земле. Они сами теряют, как линяющие животные шерсть, свои надземные части.'
...Горькая участь у горькой рябины! Она может расти всюду, и всюду ее изгоняют садовники. Рябина ушла в лес, где стала дикаркой. Крестьянские девушки нанизывают на нитки красные бусинки рябины. Матери пугают детей бабой-ягой и не велят им есть рябину. И не все знают, что когда стукнут морозы, проморозят рябину, — ее ягоды становятся сладкими. Мичурин пожалел рябину. Он не дожидается морозов. В жару можно' рвать и объедаться его рябиной. Но у Мичурина она переменила свой рябинный цвет. Оделась в трауз, стала черной, как черника.
Мичурин скрещивает рябину с грушами и яблоками. У рябины листья стали как у груши, а плоды гибридов похожи больше на вишни, они—цвета прелых вишен. Горькая рябина стала сладкой, и из нее можно приготовлять великолепные ликеры.
...Лондонские туманы стелятся по салу, несмотря на то что берега мичуринского острова омывает всего-навсего Лесной Воронеж, а не Темза.
Течет Темза.
Англичане жуют крыжовник, как жевательную резину. Крыжовник так же обязателен при англичанине, как монокль, цилиндр и оскал зубов — в карикатурах на Чемберлена.
Помимо всех рос, на крыжовник падает еще одна импортная роса: американская мучнистая роса. Когда падает эта роса, или, вернее, когда заболевает ею крыжовник, ягоды перестают расти, они сморщиваются, ка прелые мхи, на листьях и побегах выступает затем белый паутиновый налет, ягоды обволакиваются пленкой, похожей на войлок.
Гибнет крыжовник. Все меньше и меньше его прозрачных зеленоватых ягод в садах. Все больше и больш грызет его грибок Сферотека.
Где же они, и к чему лондонские туманы?
Чуть влажная марля не пропускает солнечных лучей к крыжовнику. Она создает ему, как больному, покой опущенных штор. Крыжовник живет в искусственном климате: сырость холодных туннельных пространств под мостами, сумерки вечерних туманов над Темзой.
Мичурин взял крыжовник в оборот, старается избавить его от болезни и восстановить сорт. Он выводит сорта, предохраненные от заболевания, — скрещивает зеленые и красноватые крыжовники, а потомство получилось черное. Это чернокожий гибрид «НЕГУС».
Мичурин создает своим питомцам условия естественного произрастания.
Вишня с сухих нагорных местностей Памира растет на высоких песчаных грядах.
Половодьем вишневого цветения заливается весною мичуринский сад. У него больше сортов вишен чем, жен у царя Соломона. Вишни, похожие на орешник. Вишни с белыми плодами. Розовые с белым, как налив яблочка, бочком. Вишни устойчивы, нетребовательны на почву, размножаются по селам, растут в любых садах и палисадниках.
 Вишни
бывают разного социального происхождения. Вот, например, до сих пор благополучно
растет у Мичурина… «КНЯЖНА СЕВЕРА».
Вишни
бывают разного социального происхождения. Вот, например, до сих пор благополучно
растет у Мичурина… «КНЯЖНА СЕВЕРА».
Разрешите представить! Ее предки — владимирская ранняя розовая и белая крупноплодная крымская черешня. Ее можно свободно выслать на Урал или поближе к тундре. Она любит и не боится самых свирепых заморозков.
Вы подходите к черемухе и начинаете протирать глаза: на черемухе — красные вишни. Но они растут не как вишни, а виноградными гроздями. Вкус этих плодов вишневый, но как будто разбавленный легкой терпкостью черемухи.
У вишни на одной ножке держится лишь один плод.
У гибрида «ИДЕАЛА» и «ВИРГИНСКОЙ РОЗОВОЙ ЧЕРЕМУХИ» на одной ножке... сорок или пятьдесят плодов. Черемуха передала вишне способность образовывать кисти плодов. Пусть высчитывают статистики, во сколько раз Мичурин увеличил урожайность вишни. Пальцев на руках и ногах для этого не хватит.
Мичурин выводил «ВИНОГРАДНУЮ ВИШНЮ», — так называется новый гибрид, — с 1922 года. Но еще и сейчас продолжаются опыты и работа. У вишни поставлен большой черный щит из фанеры. Какой невидимый сторож охраняет ее таким средневековым способом? У другого дерева такой же щит, но белый.
Черное и белое. Черное поглощает тепло, как губка; и передает его сеянцу. Белое гонит тепло, отгораживая от него сеянца. Вишня растет на черемухе, черенок черемухи — на вишне.
Мичурин ежедневно на клочках бумаги, как метеоролог, делает свои отметки.
...Возвышаются среди сада зеленые пирамиды. Лозы вьются вокруг высоких, как камыш, ветвей и обвешаны длинными продолговатыми сережками — плодами, цвета морской воды. Они сейчас зелены и еще зеленее будут, когда поспеют.
Лакомки, читайте внимательнее! Вы кладете зеленый плод в рот. Он расплывается, холодя язык. Вы вдыхаете воздух. Все кажется ананасным. Ягода прозрачная. В ее соку движутся крохотные, как бактерии, семена. Плодоводы называют этот «фрукт» — «небывалым в культуре ягодным растением» На родине же он зовется проще—кишмиш.
 Рано
обрадовались, читатели, — этого кишмила вам не свесит продавец вместе с урюком!
Этот кишмиш имеет и другое название, не попавшее в первые
томы Большой советской энциклопедии: актинидия.
Рано
обрадовались, читатели, — этого кишмила вам не свесит продавец вместе с урюком!
Этот кишмиш имеет и другое название, не попавшее в первые
томы Большой советской энциклопедии: актинидия.
Жил-был когда-то король, у него была актинидия. Он властвовал в королевстве Баварии и считался гурманом.
Когда коронованные особы съезжалисык столу, слуги являлись с подносами, на них покоились две-три ягоды драгоценного десерта — актинидии.
В манчжурских и китайских лесах ее подают не на подносах. Густыми зарослями вьется актинидия, вскидывая свои голые, но пушистые канаты-побеги и на верхушки деревьев. Туземцы пригоршнями собирают ягоды и мажут на хлеб, как мед.
Светло-коричневая кора актинидии напоминает франтоватые стэки, натертые воском. В Японии из этой коры делают бумагу, а из ветвей изготовляют прочные канаты.
Актинидия может стать такой же обыкновенной, как брусника для какого-нибудь Вологодского округа. Мичурин скрестил разные сорта актинидий. Отобрал лучшие сеянцы. В Козлове плоды актинидии вкуснее и крупнее, чем под Пекином.
Зимой они остаются безо всякого прикрытия и ухода. Морозы не вредят деликатесу баварского короля. Актинидия под покровительством Мичурина дает новые гибриды. Уже сейчас растет, выращиваемый для скрещивания сибирский лимонник с мелкими ягодами, как у смородины. Сибиряки режут побеги лимонника, заваривают с чаем, вместо лимона. Лесной сибиряк олимонип актинидию. — Актинидия вытеснит виноград, — не без основания пророчит Мичурин, и часами и днями пропадает у своих виноградников.
Он любуется палитрой виноградных цветов. Солнечный луч преломляется в синих, розовато-красных, черных, желтых и белых виноградинах.
 Как
будто виноград проглотил и разложил на цвета радугу, завладев спектром. В
уссурийских лесах не сияет радуга. Виноград вьется там по деревьям, не
соблазняя никого мелкотой ягод. Мичурин скрестил уссурийский виноград с
отборными французскими и американскими сортами.
Как
будто виноград проглотил и разложил на цвета радугу, завладев спектром. В
уссурийских лесах не сияет радуга. Виноград вьется там по деревьям, не
соблазняя никого мелкотой ягод. Мичурин скрестил уссурийский виноград с
отборными французскими и американскими сортами.
Когда-то, увлекаясь акклиматизацией, он посадил иностранный виноград у стен, обращенных к полдню, он хотел побороть виноградную прихоть, но плоды не успевали вызреть и гибли от ранних осенних морозов.
«СЕВЕРНЫЙ БЕЛЫЙ» виноград, — так Мичурин называет один из гибридов, «Северный белый» часто переселяется из козловского питомника и зимует под Томском, Иркутском, у Енисея.
Мичуринские винограды подвижны. И один из них вдруг пропал. Ищеек не звали, но искали тщательно. Рос виноград, и вдруг взял да весь «вышел». Беглеца предали забвению.
Небывало холодная для Европы зима 1929 года промораживала насквозь деревья... гибли сады. Мороз-контролер, как справедливый ревизор, всесторонний учитель и наставник садовода, сухими ветрами проверял устойчивость мичуринских гибридов.
Погибли только старые антоновки и скрижапели. Гибриды распускались и пахли почками.
Мичурин осматривал погибшие деревья. И вот неожиданно нашел сбежавший виноград. Он не бежал. Виноград путешествовал по саду. Он дотянулся до шестиметровой антоновки и залез на ее верхушку. Удобно зимовал и великолепно перенес морозы. Какое ему дело до погибшей стародавней антоновки, он — еще молодой гражданин садовой республики! Мичурин назвал виноград за его проделки «Дезертиром» (это прозвище даже попало в официальные каталоги). Только потом ему вернули прежнее имя «арктического» винограда.
Но он — виноград — выше всех предрассудков, плюет на все свысока, не слезая с верхушки погибшей антоновки; как удав обвивает и душит ее, впившись в кору виноградной лозой.
Я стою у абрикосов. Надо мною
раскаленное солнце в зените. Торжествует жара. Хочется испариться с земного
шара или погрузиться в воду и отдаться на волю речного течения. Плыть и плыть.
Не чувствовать
 горячей тяжести земли.
горячей тяжести земли.
Но как нарочно Яковлев не дает мне забыться. Какое дело мне до всего! Ну, подумаешь, абрикосы! Желтые, да еще с косточками!
Но Яковлев знает средство лучше, чем пятикопеечное мороженое и душ из дырявого ведра.
Он уводит меня в беседку. Мы лежим на листьях, и Яковлев; уводит меня далеко за пределы беседки своими рассказами.
Сразу становится свежее и прохладнее, хотя ветра нет и в помине.
Вначале мне трудно было понять, какую связь имеет этот жаркий козловский день с каким-то ботаником Мейером. Пусть он где-нибудь копается в своих коллекциях, сухой, как гербарий. С нас достаточно и одних историй о происхождении видов абрикосов.
Но скоро абрикосы, Мейер и Козлов переплетаются и становятся в моем воображении неразлучными, как близнецы.
Никто не понимал, зачем появляется Мейер в Козлове Он не был ни растением, ни сортом, а самым обычным американцем — с чемоданами, точностью и любопытством.
Американец глотал козловскую пыль, кивал как игрушечный заводной слон, Мичурину, делал бесчисленные пометки в своих бесчисленных книжках, исчезал всегда быстро, нагружая чемоданы травой и плодами.
Последний раз он появился в Козлове, сделав остановку по пути в Тибет.
Мейер не боялся жары. Должно быть, у него нередко пересыхало в горле, но он жил ради персиков и абрикосов, ради молчаливых встреч с козловским садовником.
Им хорошо, персикам, в грунтовом сарае! Над ними качается скворешник. Еще лучше им на открытых грядах, в персиковой аллее.
Я покусываю абрикос. Небрежно, как шелуху семячек, бросаю косточку.
Яковлев поднимает ее и еще выше поднимает свои рассказы.
Мейер проезжал по Монголии. Он узнал о старинном монастыре на скале. В монастыре среди абрикосовых деревьев покоятся остатки династии китайских императоров. Для того, чтобы Мейеру попасть за монастырские стены, ему надо сначала сделаться императором, а потом умереть.
 Мейер становится заговорщиком. Он втягивает в
преступление полковника, начальника станции Уцзимы. Полковник инсценирует набег
хунхузов на моластырь. Казаки вступаются за честь останков китайских
императоров. Они обрывают абрикосы, вытаскивают их с корнями, нападая на
отчаянно защищавшихся таким же способов хунхузов. И после этого абрикосы
появились на козловской почве.
Мейер становится заговорщиком. Он втягивает в
преступление полковника, начальника станции Уцзимы. Полковник инсценирует набег
хунхузов на моластырь. Казаки вступаются за честь останков китайских
императоров. Они обрывают абрикосы, вытаскивают их с корнями, нападая на
отчаянно защищавшихся таким же способов хунхузов. И после этого абрикосы
появились на козловской почве.
Мейер странствовал. Мичурину же было не до Монголии и Тибета. Он мечтал. Ему снились холодоустойчивые персики и абрикосы, — вот они зацветают, вот садовницы собирают плоды. Мичурин мечтал, но работал не как мечтатель,
Сибирские северные абрикосы не обживались в Козлове. Они привыкли к морозам, но не к длинному лету. Персики же не с чем скрещивать. У них только °Дин родственник — миндаль. Миндаль же не цветет в Козлове. Тогда Мичурин обращается к услугам посредника. «ПОСРЕДНИК» — это тоже его миндаль, — гибрид американского с диким миндалем с гор Монголии.
Миндаль растет медленно. Плодоносит через шесть-семь лет. Мичурин подхлеснул «посредник», облив почву раствором марганцевого калия. Однолетки миндаля сразу же пустили цветы и дали завять от оплодотворения с культурным персиком. Миндаль начал бурно расти, превышая всякие нормы. Миндаль перестал миндальничать. Волжским лесным бобовником запахло в саду. Миндаль распускается весной чуть ли не вместе с подснежниками. Он заливается красными цветами, в них тонут листья и восторженные человеческие глаза.
Я держу в руках пушистую миндалину. Как будто поймал зверька за хвост. Миндаль лохматый, как шкурка котика. Своей желтизной он вызывает на сравнение с вылупившимся цыпленком.
 Монгольский
миндаль сделал «Посредник» выносливым. Американский —
передал ему способность скрещиваться с персиком.
Монгольский
миндаль сделал «Посредник» выносливым. Американский —
передал ему способность скрещиваться с персиком.
К зиме южные персики необходимо пригибать к земле, прикрывать рогожами, защищать от морозов для того, чтобы довести их до цветения, чтобы после скрещивания с «Посредником» новые козловские персики не боялись холодов.
Персики укутаны, как новорожденные, но в своем тепле они, должно быть, млеют, протягивая свои почки к цветущему миндалю.
Через несколько лет, после повторных скрещиваний, персики завоюют Козлов, будут, как сейчас лопухи, во всех садах и огородах.
Лопухов много и у Мичурина. Но растут они не в канавах, и не у заборов, а на грядах. Мичурин очень любит лопухи.
В тот день, когда я издевался про себя над лопушиными грядами, мы сидели в лесу и, как старосветские помещики, пили чай с вареньем.
Я не знал, как называются длинные ананасные, похожие на спаржу, отливающие янтарем кусочки, плавающие в густом прозрачном соку на моем блюдце.
— Ну как, лопухи вкус имеют? — спросил кто то лукаво. Да, я ел ножки лопуха!
— Ревень-то — штука полезная; у меня ревёней больше чем в аптеке,—говорит Мичурин.
Лопух—это ревень. Но не тот ревень, о котором вспоминают врачи, выписывая на рецепте слабительное. Ревень растет у Мичурина не как лекарство от болезней. Мичурин вспомнил о том, что у- нас в забвении огород ревень, о том, что варенье из его черешков — любимое угощение англичан, что у них целые поля засаже ны ревенем, что они экспортируют его в другие страны.
Вот и все.
Ревень не надо выращивать, он растет без ухода. Со всем как лопух. Но какое вкусное подспорье было бы населению, если бы в каждом огороде вместо лопуха рос ревень. О ревене Мичурин только напоминает, — это единственное растение в его саду, избегшее кастрации и свадьбы.
Даже риса не пощадил Мичурин.
В ящиках с водою растет туркестанский рис. Его будут скрещивать со злаками, — рожью, овсом и пшеницей. Рис должен расти на суходольных местах. Китай перестанет быть страной риса, он не знает, какие каверзы против него готовит один из жителей города Козлова.
Над рисовыми ящиками растут американские пеканы и ореховые деревья. У пекан почти весь орех занимает съедобная мякоть. У гибридов грецкого ореха с манчжурскимк видами — тонкая скорлупа, — достаточно щелкнуть, и она раскроется, обнажив сытный плод ореха.
...Дыни у Мичурина созревают вместо ста дней в пятьдесят и меньше. Они круглые, чуть ананасного вкуса. Дыня — гибрид французской «АНАНАСНОЙ» и дикой сибирской — носит гордое имя «КОММУНАРКИ».
...Уже несколько лет ведутся работы над помидором.
До сих пор рассадок помидоров выращивается в парниках. Они цветут только раз в жизни. Мичурин дарует помидору многолетнюю жизнь, скрещивая его с горько-плодным солянумом.
Солянум растет в диких лесах; его красные ягоды малы и невкусны, как застоявшаяся вода. Солянум не приспособлен для садовых операций: тычинки у него плотно сжимают столбик пестика, и при кастрации нежная часть пестика обнаруживается и сжигается солнцем.
Помидоры укутаны рогожей, которая не пропускает солнечных лучей. Если Мичурин выведет многолетний помидор, страна сэкономит миллионы. Раз посаженный помидор рос бы на одном месте несколько лет, принося сильные урожаи.
 Было
бы не плохо, если бы экономисты, бухгалтеры, статистики со счетами и
арифмометрами посетили бы мичуринский питомник.
Было
бы не плохо, если бы экономисты, бухгалтеры, статистики со счетами и
арифмометрами посетили бы мичуринский питомник.
Мичурин бы дал им закурить своего табаку собственного мичуринского производства, и пусть они, отряхивая пепел и затягиваясь дымом, высчитали, сколько тысяч рублей могло бы съэкономить государство, если бы все курили мичуринский табак.
Мичурин скрестил высокосортный болгарский ранний табак с мелколистным суматрским тропическим табаком. Высеял сеянцы гибридов и отобрал скороспелый экземпляр, вызревающий в короткое лето.
Махорка требует тучной, унавоженной земли: мичуринскому же табаку нужна сухая песчаная почва.
Он в десять раз доходнее махорки, в нем и нет «секретов фабрик» — белены, росного ладана, тинктур, хмеля и прочей «швары». Листья мичуринского табака пахнут лучше прославленного турецкого табака.
...После жаркого дня сильнее пахнут в саду цветы и сильнее всех льют свой запах розы. Розы — они всегда провоцируют на сентиментальность. Ведь у них «нежные лепестки», их «колышет ветерок».
«Но и в данном случае гибридизация помогла делу От скрещивания казанлыкской масличной розы с нашей желтой,
 так
называемой персидской розой (Персиан Нело), после повторного скрещивания с
индийской розой «Мультифлера», получился вполне выносливый для нашей местности
новый сорт масличной розы, дающий до 0,004°/о элеоптина (т.-е. очищенного жидкого
розового масла), между тем как казанлыкская роза Болгарии дает самое большее —
лишь 0,003°/о; да кроме того неочищенный продукт перегонки из цветов нашего
нового сорта розы застывает только при понижении температуры ниже 24° тепла по
Р, а казанлыкское неочищенное масло застывает при 17 — 20°,
что имеет большое значение при производстве перегонки и вообще поднимает
качество и цену продуктов.
так
называемой персидской розой (Персиан Нело), после повторного скрещивания с
индийской розой «Мультифлера», получился вполне выносливый для нашей местности
новый сорт масличной розы, дающий до 0,004°/о элеоптина (т.-е. очищенного жидкого
розового масла), между тем как казанлыкская роза Болгарии дает самое большее —
лишь 0,003°/о; да кроме того неочищенный продукт перегонки из цветов нашего
нового сорта розы застывает только при понижении температуры ниже 24° тепла по
Р, а казанлыкское неочищенное масло застывает при 17 — 20°,
что имеет большое значение при производстве перегонки и вообще поднимает
качество и цену продуктов.
К этому поэтическому описанию из «ДОКЛАДА Тамбовскому губернскому съезду агрономов, 25 декабря 1920 года, Козловского уездного инструктора садоводства И. Горшкова». остается только прибавить: добывать эфирные масла может всякий земледелец, не знающий химии.
В Восточной Румелии, в Казанлыксшй долине, болгарки собирают в корзины бледнорозовые лепестки. В день сбора лепестки на открытом огне перегоняются в масло. Долина сияет огнями... Все пахнет розами...
...В тихие и влажные летние вечера мичуринский сад наполнен тонким ароматом фиалки. Фиалок нет среди гибридов. Это пахнут лилии, «фиалковые лилии» Мичурина, с лиловыми цветами, стройные, как высокие прямые пружинки.
Не всегда у садовых лилий аромат фиалки и пряного жасмина. Они пахнут гнилой водой стоячего пруда; красивые и роскошные, а с запахом дохлятины. Так и некоторые орхидеи пахнут гнилым мясом или рыбой.
Садовые лилки доставляют только зрительные ощущения, они не имеют запаха.
— Нет хороших лилий без аромата, — говорит Мичурин, и он дал им аромат.
 Голландия
славится не только коровами; это не страна, а цветочный магазин. Вместе с
сырами она вывозит во все страны тюльпаны, лилии и гиацинты. Товар должен
пахнуть.
Голландия
славится не только коровами; это не страна, а цветочный магазин. Вместе с
сырами она вывозит во все страны тюльпаны, лилии и гиацинты. Товар должен
пахнуть.
НЕВЕДОМЫМИ ПУТЯМИ В ГОЛЛАНДИИ УГНАЛИ О ПАХНУЩИХ ЛИЛИЯХ. СРАЗУ БЫЛ ПОСЛАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОЗЛОВСКОМУ САДОВОДУ:
«ПОКУПАЕМ ЛИЛИИ И ВСЕ ВАШИ С НЕЮ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ТЕМ, ЧТОБЫ ВЫ ЭТИХ ЦВЕТОВ БОЛЬШЕ НЕ РАЗМНОЖАЛИ».
Сделка не состоялась.
Лилии, синие, как колокольчики, — что им остается кроме того, чтобы пахнуть и распускать бутоны? Их не предадут в один прекрасный день инквизиции, их не будут пытать на огне пытками казанлыкских роз. Они существуют только для красоты, для букетов и теплиц. Один из гибридов — производителей «фиалковой лилии»— рос у ног Будды в индийском монастыре и считался таким же священным, как Будда. У священной лилки семь лепестков. Число семь приносит счастье человеку. Человек незаметно для служителей храма похитил лилию и прислал ее Мичурину не для счастья, а для гибридизации.
Капитан Раевский никогда не видал садовода Мичурина. Козлов далеко от морского пути. Козлов — не маяк и не бухта. Капитан разрывался между палубой и грядкой. На двадцать восьмом километре от Владивостока развел он небольшой садик.
Письма и посылки в Козлов идут оттуда две недели. Раевский часто пишет Мичурину: они обмениваются семенами и черенками.
Капитан недавно собрался к Мичурину. Он вез с собой корзины с растениями. На каком-то полустанке его сняли с поезда, приняв за спекулянта, — зачем это какому-то капитану везти коренья? Мичурин ждал гостя и посылал местным властям сердитые телеграммы. После этого «сухопутного плавания» капитан писал в Козлов:
Поездка, с долгожданной мечтой посетить вас. была сорвана хулиганами. Два раза жизнь моя была в опасности. Меня приняли за спекулянта. Как обидно, тружусь всю жизнь, никакого пристрастия к богатству не имею. Так это меня расстроило, что пришлось возвратиться домой. Спасибо за телеграммы. Сельсовет тоже получил их.
Иван Владимирович! Как тяжело жить и работать над любимым делом садоводства в нашем крае. Какая зависть у людей, сколько неприятностей я из-за этого переношу! Люди считают, что я развел сад только для себя, а не вообще для края. Они не понимают, что хочется мне доказать полную возможность развития садоводства на Дальнем Востоке.
У меня, Иван Владимирович, теперь плановый садик. У всех соседей по нескольку деревьев, они не ухаживают за ними, а смотрят то с завистью, то с иронией на мою работу. Я с утра до ночи на своем участке с женой. Не досыпаем, не доедаем, но твердо уверены в успехе своего любимого дела. Разве это не удовлетворение за наш труд, не радость садовода? У меня четыре деревца вишен принесли плоды. Это первые вишни в Уссу. римском крае. Плодородная Мичурина дала пятьдесят шесть вишен, «Идеал» двадцать одну вишню, остальные — по несколько. Все вызрели, очень вкусные, ароматичные, кисло-сладкие. Ведь радости, Иван Владимирович, не было конца, — серьезно, мы радовались, как дети. У меня в саду была шестидесятилетняя садовка с Донской области, — старуха танцевала около вишенки: так это ее привело в восторг.
В секции садоводства ко мне относятся скептически, не верят в возможность размножения в нашем крае ваших гибридов. Я на это не обращаю внимания, твердо верю в свое любимое дело и в вас, Иван Владимирович.
Пройдут года, и садоводство будет процветать в нашем Дальневосточном крае. Таких пионеров-садовников, как я, есть уже несколько десятков, и мы уверены, что вырастим сады. А двуногих вредителей у нас много, но ничего. Еще поборемся! Привитый виноград дал очень хорошие результаты, груши и яблоки тоже. Шлют привет вам с Дальнего Востока ваши питомцы. С веселым и жизнерадостным видом, распустив лепестки, красавицы гордо посматривают на Уссурийскую тайгу. Черешня Козловская зацвела, этим подчеркну я, что рекордный пробег транспортом в одиннадцать тысяч километров для питомцев Мичурина просто был «маленькой прогулкой».
Еще раз за все с глубоким... и т. д.
Гр. Ив. Раевский
Среди трав и грядок, [как плешь, выделяется бледно-зеленый кружок. Крепкие стебельки, как будто у земли начала расти в этом месте борода. Жердочки окружают кольцом зеленеющее пятно. Никто не обращает на него внимания. Здесь Яковлев не останавливает экскурсантов. Все сооружение замаскировано, как полигон с орудиями. Трава отводит глаза от небольшого, с трудом пробивающегосл отростка.
Царь зверей у китайцев — тигр (Лау-ху), царь морских зверей — дракон (Люнь), царь трав — «человек-корень»,
ЖЕНЬ-ШЕНЬ
ШЕНЬ-ШЕНЬ
ЖЕНЬ-СЕНЬ
ЖИН-СЕНГ
ИН-ШЕНЬ
ИН-СЫН
СЕНЬ-ШЕНЬ
ИН-ШИ —
это не китайская заумь, это названия корня жизни. «Бог гор «Сан-Шин не» посылает тигра «Лау ху» караулить «жень-шень». Бели кто растопчет траву жень-шеня или стебель его, то с того времени в течение шестидесяти лет трава жень-шеня уже не вырастет. Только после шестидесяти лет опять из корня покажется стебель. За все эти годы жень-шень спит». Леса древние, как легенды о жень-шене. Тигр сторожит корень жизни. Искатели жень-шеня бродят в тайге. Их ноги покрыты барсучьей шкуркой. У них блуждающий, опущенный в землю взгляд.
Жень-шень уничтожает слабость и «тесноту» в груди. Жень-шень делает дыхание свободным, исцеляет стариков, изнуренных сладострастием. Жень-шень приостанавливает смерть.
Корень — подобен человеку. Верхняя утолщенная часть его — это голова, отростки — это конечности. Китайцы к головкам корня приделывают косу. Если корень похож на человека, то это должен быть непременно китаец.
Ничего нет дороже жень-шеня, корень стоит тысячи рублей. Почти не осталось дикого жень-шеня. Жень-шень — это вершина тибетской медицины, книги Жудши.
Из семян дикого жень-шеня .растет корень в мичуринском саду.
Мичурину корень достал капитан Раевский. Он месяцами уговаривал китайца, нашедшего жень-шень, дать несколько семян. Китаец упрямился. Тогда капитан рассказал ему о козловском садоводе. Китайцу показалось это легендой, и он согласился отдать семена.
— Только Козловский далай-лама должен хорошо заплатить, чтоб корень не обиделся, и хорошо размножалось потомство от него, дтобы человек был всегда им доволен.
Корень жень-шень — загадка мировой медицины. Золотом нельзя измерить его ценность. Это знают старики, ушедшие от жизни к жень-шеню. Они ищут его годами в тайге, разгребая листья и ветви. Если же находят первые его всходы, то жень-шень оставляют на месте. Обтыкают его палочками и никто не посмеет взять этот корень, кроме искателя.
К этим старикам-отшельникам прибавился еще один старик, он не ходит с сумкой и не сидит на корточках.
Он готовится к преступлению. Он испытает силу женьшеня на других растениях, зажжет «корнем жизни» растительные клетки, он не будет шептать над ними молитвы, кастрируя его цветки.
...В саду, у дорожки, рядом с жень-шелем цветет голубыми цветами тибетская трава. Эту траву носят кочевники в ладонках на груди. Трава спасает от пуль.
Когда созревают семена, цветки тибетской травы похожи на большие одуванчики. Вот-вот сорвутся и растают в пространстве пушистые шары!
Мичурин осматривал сад. Шары от заката становились похожими на восходящие солнца.
Он становился на колени, подвязывал банты отростков, мял в руках листья. Чуть прикоснулся к розоватому шару. Шар потерял свою округлость и рассыпался. Уносимые пушинки теплым душем пролились над рукой изумленного старика.
Мичурин в потертой тужурке, расстегнутой ни все пуговицы, перебирает в руках листья.
Мальчишки делают из листьев хлопушки и свистят в стручки акации.
Мичурин смотрит на лист, как гадалка или как подпольный хиромант. Морщины его рук щупают морщины листьев.
Проходят годы, пока дерево даст плоды.
По мельчайшим уликам Мичурин знает, какие это будут плоды. Он не гадает на кофейной гуще. Он не суеверен. Но следует приметам.
Появившиеся цветы вянут от одной осенней ночи.
Сколько мелочей запомнил Мичурин в триста шестьдесят пять дней, помноженные на пятьдесят. Каждый день, несколько раз за день щупает глазами, руками, воспоминанием и записями каждую ветку и завязавшиеся почки. Он всегда наедине с ними.
Горбится дерево абрикоса. Скоро ветви его будут похожи на скрученные пальцы умирающего. Абрикос растет двадцать пять лет. Абрикос кончает свою абрикосовую жизнь.
Где-то в извилинах мичуринского мозга, как окаменелости, отразились первые побеги абрикоса, его юношеский пушок и сочность плодов.
Ветвистое дерево переплетено и перевито нитками воспоминаний о ветрах и скачках ртути, о снежных зимах и днях солнечных, крепких, как настоящий чай.
Со всех сторон тянутся ветви, яблони выгоняют почки, соки идут по деревьям, все покрыто весенним розовым потом.
Плоды в зное отлеживают бока.
Ползет гусеница.
Деревья сбросили листву. Все кивает, опуская головы на невидимые плахи.
Мичурин всегда все видит. Но не так, как очеркист. Его мутные глаза сильнее цейссовских биноклей.
Он может не узнать своего давнишнего соседа, перепутать имена и отчества профессоров, но он не забывает, как были расположены жилки на пластинхе листа, проникает в сердцевину плодов, помнит их веснушки.
Как будто в его, мичуринской, крови ворочаются козявки-сейсмографы, записывающие колебания почвы, отмечающие землетрясения. Они царапают в Мичурине жизнь его сада. Запись извилиста. Она отмечает каждую клетку, каждый нерв. Землетрясение происходит где-то за серой лоснящейся тужуркой.
Все это можно сказать гораздо проще, но простые слова отлетают от этой страницы, как ртуть от пальца. Потому что все это очень не просто.
Все разговоры теоретиков о якобы ненаучном ведении дела гибридизации у оригинаторов привели бы, если этих разговоров послушаться, к тому, что всякая практическая работа давно бы остановилась.
Ведь из подобных теоретиков, несмотря на имеющиеся у них под руками все средства для практического ведения дела. ни один не вывел ни одного улучшенного сорта плодовых растений. Это только показывает, насколько они являются на самом деле профанами в выведении новых сортов.
Следовательно, здесь не только нельзя применить какой-нибудь учет по закону Менделя, но нет никакой возможности вести строго точную работу по предварительно составленному плану. Если я заблуждаюсь в этом своем заключении здесь, то прошу указать мне твердые основы, с помощью которых я мог бы выйти из лабиринта затруднений. Только не предлагайте ваших обычных недоказанных гипотез. Я и без вас могу поставить их целый ряд, но помощи от них делу нет никакой.
Эти сердитые мичуринские строки впервые появляются в .печати. Они не вошли в изданный том его трудов.
— Это у меня незаконнорожденные, — так часто называет свои новые сорта Мичурин.
Они «незаконнорожденные» по учебникам ботаники и журналам садоводческих обществ. Они «незаконнорожденные» по «научным традициям». Еще бы! Новые культурные сорта растут из семян, какие-то гибриды имеют потомство!
По какому кодексу судить эти краснощекие яблочки за все преступления? Им стыдно, оттого они и такие красные.
Мичурин идет вразрез с законами, а иногда и с застывшими в своем неоспоримом величии аксиомами.
В мичуринских гибридах выступают не только ближайшие производители, но и далекие, неизвестные оригинатору, родичи-предки.
Продолжение и окончание диспута о «недоказанных гипотезах» будет где-то «следовать», растекаться и прерываться председательским звонком. Здесь же не аудитория, а только сад — за окраиной города Козлова.
— В саду надо быть остроумным. Нам от сада даны плоды для пищи,—говорит Мичурин, — а не дрова на топку. Слышь, говорю тебе, тебе прежде всего нужно улучшать сорта. Вот у нас, что ни развернешь „Бедноту", все тракторы да тракторы. Понятно, тракторы— штука необходимая но мы урожайность свою ими на много не подымем, еспи будем улучшать только обработку почвы. Какую почву ни дайте, а что будете делать, если сорта растений ни к чорту не годятся? Надо сорта улучшать, а тогда уж к ним применять лучшие способы. Слышь ты. нужно вопрос за хвост поймать, да дуракам с умными в глаза всунуть. Как была рожь при Адаме да пшеница при Еве,так и осталось. А надо ввести в характер растения отсутствующее в нем качество. Стари«ов омолаживают, а надо природу с растениями омолодить, дефекты строения организмов исправить. Создавать надо новые виды, чтобы нашим потребностям соответствовали. Понимаешь ты меня, слышь ты?
— Понимаю, Иван Владимирович, стараюсь понять! — кричу я в мичуринское ухо.
Но Мичурин не слышит. Он уходит в старый сад, к кривым
стволам старых деревьев. Нет, он не садовод, он
 определенно
часовщик. Посадить бы его за окно, дать бы ему темные, <как стеклышки для
наблюдения затмений солнца, очки, пинцеты, колесики и винты. Пусть сидит и
копается! Хозяйки принесут ему чистить горелки, и он протянет зажигалку к
паяльнику.
определенно
часовщик. Посадить бы его за окно, дать бы ему темные, <как стеклышки для
наблюдения затмений солнца, очки, пинцеты, колесики и винты. Пусть сидит и
копается! Хозяйки принесут ему чистить горелки, и он протянет зажигалку к
паяльнику.
Как будто из листьев и побегов Мичурин хочет сделать тончайший часовой механизм. Вместо зубчатых колесиков будут зазубренные края листьев, вместо стрелок — выступающий главный нерв на середину листа.
Мичурин отбирает молодые сеянцы. Он исследует толщину побегов и их окраску. Следит за разветвлением сетки жилок на листе, .радуется войлочной пушистости, тупой зазубренности и матовому налету листьев.
Все эти признаки доступны невооруженному глазу. Но есть и такие, как сказочные шапки-невидимки, их не передать речью, чертежом, рисунком. Их не поймает самый усовершенствованный микроскоп. Есть только один, один аппарат, старый, как Мичурин, потому что это сам Мичурин.
Он обладает обонянием насекомого, у него «абсолютный нюх». Трудно сконструировать еще один такой аппарат. Каким чертежом передать чувство инстинкта, сосредоточенную волю и опыт одной человеческой жизни, ибо, как говорит Мичурин, «природа, как видно, в своем творчестве новых форм живых организмов дает бесконечное разнообразие и никогда не допускает повторения».
Он молчит, старичок. Его продолговатое лицо выдвинулось вперед, глаза закрыты. Он выпустил лист из рук. Медленно, как распускающиеся бутоны, раскрывает он веки, и его рука сразу же находит лист. Он разложил его на ладони, как на операционном столе.
Качаются ветви. С реки доносятся голоса купальщиц. Сад живет шорохами.
Откровенничают между собой мичуринские плоды.
Он все еще смотрит на лист, должно быть, у него затекли колени.
— Иван Владими-иры-ы-ч! — кричит кто-то.
Мичурин не слышит. Он становится скульптурным, как будто гипнотизирует лист. Сейчас же он начнет исполнять его приказания.
Листья срываются ветром. Огромные ветры — дворники хозяйничают по саду, они тасуют листья по дорожкам. Тополь расточает свои пушные богатства, кидая на землю кусочки ваты, уносимые ветром. Красноватый сок на подсейке березы закисает на воздухе, как пена на лошадиной морде.
Пашина теплица
В ветвистой изгороди много дыр. Главный подавал знак, и все крались на корточках. Живот холодило от страха. А вдруг сзади подкрадается собака и укусит? Мичуринские собаки умели красться не хуже мальчишек с окраины. Они в своей желтой шерсти казались укутанными осенними листьями.
Условленные пощелкивания трещали как ореховая скорлупа. Каждый боялся, чтоб от старика не досталось на орехи. Надо было уметь обвести его: во-время найти лазейку и, злорадствуя, кусать спелое, только что сорванное с дерева яблоко.
Смельчаки таскали с дороги смирных собачонок и приносили их с собой. Во время набегов на мичуринский сад. Когда же показывались, рыча, желтые сторожевые мичуринские собаки, мальчишки отпускали дворняжек на растерзание. Садовые собаки бросались на них. Мальчишки радовались, пользовались собачьей суматохой, на бегу обрывали яблоки, ломая ветви, все топча нагло мелькающими пятками.
На лай прибегал хозяин сада. Он бежал, спотыкаясь об лейку, расплескивая воду. Он бросал лейку, искал и не находил палку, подымал сломанную ветку и начинал махать ею, как будто отгонял муху с кончика носа.
Он бросался разнимать собак. Дворняжки, поджимая хвосты, убегали из сада под сдерживаемое рычанье победителей и зализывали раны.
Тогда мальчишки с разных сторон начинали визжать и мяукать. Они обстреливали сад обкусанными яблоками.
Старик багровел. В его руках появлялась настоящая палка, и он уже махал ею, как мельница крыльями.
Маленькие первобытные люди терзали сад и его владетеля. Воровать яблоки у чудного старика считалось на окраине привычным и даже необходимым делом.
Пашка никогда не отставал от своих товарищей. Он убегал быстрее всех, и его пускали вперед пробираться сквозь узкие подкопы под колючую изгородь, после того как старик заделывал прутьями более удобные лазейки.
Однажды Пашка бежал из сада, спасаясь от Мичурина и его собак. Вдруг заметил, что другие беглецы неожиданно остановились. Он обернулся. Собаки не лаяли.
Старик держал ветку в руках, боясь ее выронить. Только что он резал ею воздух. Мальчишки слышали, как .что-то булькало в его горле. Старик забыл про пропажу яблок. Он нагнулся, положил ветку на землю, как раненного на носилки, и, ползая на коленях, начал собирать, точно разорванное письмо, оборванные листья.
Яковлев вернулся в Козлов после демобилизации, когда город уже, как о прошлом, вспоминал набег генерала Мамонтова. Он поступил в земельный отдел. Там через Горшкова узнал, что старик, образ которого сохранился где-то в его детских воспоминаниях, жив до сих пор, что у него удивительные яблоки и что его называют далее великим, садоводом.
В первый раз Яковлев вошел в мичуринский сад через калитку, а не пролез лод изгородь. Он обозревал садовую окрестность прошлых сражений.
Раньше забор казался высоким, как крепостная стена.
Сад похудел и осунулся. Время уплотнило его.
Так, через какое-то количество вечеров, после того как было сыграно несколько партий в поддавки и Яковлев несколько раз оказался в «дураках», после того как он с почтением, сначала из вежливости, а потом уж с интересом справлялся о здоровье каких-нибудь каштанов и кустов, молодой агроном остался навсегда в саду, окруженный рекой и уединением.
У Яковлева был небольшой ящик с вещами. И бывали минуты, когда он хотел обхватить ящик, как в детстве картуз с яблоками, и бежать из сада.
Яковлев видел Мичурина молчаливым и угрюмым. Особенно в сырые дни, когда он глох, точно объедался хиной.
Яковле? узнал старика с его привычками и капризами.
Дни тянулись как чаепитие. Агроном привыкал к климату (взгляды, паузы, тишина, сухость и влажность размеренных часов) как гибрид, не переносивший еще холодных и белоснежных зим.
Он акклиматизировался, он не привыкал, а скрещивался с этим неповторным бытом, начинал понимать изгибы морщин старика и его молчание.
Он заразился Мичуриным. Эта зараза благоухала вместе с цветами, ее переносили вместе с пыльцой насекомые.
Сейсмографы подступали со всех сторон к Яковлеву. Он видел не только портрет Мичурина на глянцевой бумаге, он увидал лицо человека, пронизанное горечью и догадкой. Видел не «покорителя природы», не «великого», «мудрого» (с такими .заголовками «Бюро вырезок» присылает статьи о Мичурине), — он .видел самого обыкновенного старика, которого раздражали почки, распустившиеся раньше времени, убитые заморозками, неверным расчетом.
Мичурин не учил Яковлева. Но он посвящал молодого агронома в свои заговоры, и тогда вечера молчания проходили незаметно для обоих.
Было так тихо, что становилось слышно, как трещат угли в самоварной трубе. Лампа зеленым, как прозрачный лист, колпаком окутывала обоих спокойным эпическим светом.
Мичурин копался в бумагах. Потом доставал банку с вареньем и долго на свет рассматривал капельку сока.
 Яковлев
отвечал на десятки писем, вырабатывая почерк строгий и
аккуратный, как в библиотеке.
Яковлев
отвечал на десятки писем, вырабатывая почерк строгий и
аккуратный, как в библиотеке.
В саду они радовали и огорчали друг друга своими приметами и наблюдениями. Завтра надо пригнуть к земле заболевшую ветку; пыльца в банках залежалась; что-то с почты не приносят посылку с семенами.
Так вошел Яковлев в жизнь мичуринского сада.
У Мичурина было несколько так называемых учеников. Они приезжали в командировку из Москвы и Ленинграда. Старик относился к ним с нескрываемой усмешкой, — они хотят с ним беседовать, как с профес-сором на зачете, как с знаменитостью, — он же, как проказвик, начинал говорить, картавя, прикидываясь ничего не понимающим придурковатым чудаком, уверяя, что слаб на ухо, что памяти нет, годов много. Молодые люди начинали с ним разговор о последних заграничных новинках, о трактовке теории витаминов таким-то профессором. Они увлекались, пораженные внимательностыо старика.
Мичурин же обрывал их на самом возвышенном месте речи примерно таким замечанием:
— Ну, а ты, слышь, что, на базар пойдешь витаминами-то своими торговать? Свесь тогда мне фунтик, сделай одолжение.
Мичурин отлично знает все о витаминах. У него много продуманных, вылежавшихся и спелых мыслей, но сейчас он их не выдает.
Он лукавит, — о витаминах, ты там, брат, вызубрил, а вот как у тебя глаз на природу востер, — ведь этого-то у вас там не зубрили; профессоров ты знаешь, а проса от овса не отличишь!
Может быть, в этом профессиональная гордость самоучки, не видавшего в жизни университетских стен, ненависть к цитатам, к академичности лабораторий, а иногда и к рассуждающим .профессорам, против которых всю жизнь шел, копаясь на грядах, профессор города Козлова.
Не так давно к Мичурину явилась делегация.
— Просим вас, Иван Владимирович, читать нам лекции.
Мичурин ходил после этого так, как будто у него на всех пальцах были нарывы. Он махал палкой и возмущался:
— Ишь, чего выдумали, — лекции! У меня на сад времени нет, а они мне — лекции; еще попугаев обучать наймут, — лекции...
Кажется, дошло до того, что Мичурин выгнал делегацию. Аркашка перевез ее в полном составе на тот берег.
Студенты возмущались. Мичурин же ворчал громогласно:
— Хоть в ЦИК жалуйтесь, самому Михаилу Иванову, а лекций ваших, дурачья штука, читать не заставите! Подумаешь, делегация!
Во всем этом какое-то органическое недоверие Мичурина к людям одной только книги, а не повседневной практической жизни.
Яковлеву в зимние бесшумные ночи казалось, что его большая комната в деревянной пристройке находится не в Козлове, в нескольких десятках минут ходьбы от железнодорожных рельс, а где-то далеко, на неведомом маяке или за полярным кругом.
Особенно, когда в половодье разливался Лесной Воронеж, верхушки деревьев кустами торчали из воды и Аркашка на лодке носился по саду.
В такие дни Яковлев не открывал дверей; он лежал на кровати, как пассажир, смятый качкой в каюте третьего класса.
В ночи нашествия воды Яковлев ворочался, перекатывался с боку на бок, отгоняя сны. Они двигались, как льдины, наплывали и обламывались.
Яковлев видел огромные деревья, на них с одной стороны растут вишни, груши, с другой — свисают лимоны. Он видел леса таких деревьев. Пробирался в их чащи, срывал листья, бросал их на землю, листья давали корни, из каждого листа вытягивались перемешанные между собою плоды, — и больше всего среди них лимонов плывет в лимонном соку, простирает руки к вечно зеленым листьям, лимоны растут выше небоскребов.
Яковлев просыпался, как будто падал с небоскреба.
Тогда мысли корнями входили в него. Начинал грезить садом, цифрами, со всех сторон глядели понимающие стариковские глаза.
Сны уходили вместе с опадавшей водой. Она оставляла наносные вымокшие ветки, застывший волнистый ил и мокрые травы, прелые как болото.
Сны же оставляли возраставшую уверенность в том, что лимоны будут расти не только во снах.
Был какой-то час, когда .Яковлев сел за стол и начал высчитывать, сколько понадобится для будущих опытов средств и разных там пинцетов, этикеток, шпагата и пергамента.
План работ П. Н. Яковлева, научного сотрудника питомника, рассматривал расширенный научный совет во главе с профессором Воронежского сельскохозяйственного института. Яковлев писал:
Факты работы И. В. Мичурина —приспособление гибридных сеянцев к окружающей среде, их жизненная пластичность — укрепили мою мысль, что можно сращивать между собой самые далекие растения, как, например, грушу и лимон.
Профессорская же рука зачеркнула это место карандашом и написала фиолетовыми чернилами: опыты аннулированы из программ работ Научным Советом.
— Ведь это у вас .химера, зачем же на нее тратить силы, — «ободряли» Яковлева профессора.
— Да это чорт знает (чего выдумали, — .химера! — пробурчал человек, не особенно уважающий авторитеты.
 Из
тетради садовых записей
Из
тетради садовых записей
30 января 1927 г.
Лимон на груше находится под стеклянным колпаком. Чувствует себя хорошо. Срастание великолепное. Место срастания обхвачено двумя резиновыми кольцами. Произведена удобрительная поливка минеральными солями. Дано лимону внекорневое питание КNО3.
13 ноября 1927 г.
При рассмотрении в лупу — листья у груши, к которой привит лимон, кажутся очень жирными. Хлоропласты расположены почти черной массой по всей поверхности листьев. Главные проводящие нервы хорошо просвечивают. Ночью в теплице применяется электрическое освещение в 300 ватт, 540 свечей, с правильными перерывами в два часа от света к полному мраку.
19 марта 1928 г.
Цветут мандарины, привитые к грушам.
Число в середине августа 1929 г.
Яковлев быстро прыгает в окно, автор очерка следует за ним, скидывая какую-то коробочку с подоконника.
Мы сразу же оказываемся среди банок, колб и извивающихся трубок. Как будто .мы попали в склад порожних бутылок и прочей посуды. Под большими стеклянными колпаками, точно смущаясь свободного пространства, торчат тщедушные отростки.
К единственному в своей комнате окну Яковлев пристроил теплицу, окно стало дверью.
Яковлев выдвигает из угла и показывает мне — цветочный горшок. Две хрупкие веточки. Они растут вместе на одном корне, одна из них более тонкая и тщедушная. Это растут вместе лимон и груша, растут не так пышно, как в яковлевских снах.
Их «стволы» можно обхватить мизинцем. Они сращены в однолетнем возрасте. Их сожительство дружно. Лимон тронулся в рост, питаемый корнями груши. Гормоны лимона проникли в клетки груши, и груша стала вечно-зеленая, как лимон. Ее листья как будто смазаны чем-то жирным и покрыты блестящим темно-зеленым загаром. Зимою листья не опадают. Они зеленеют в теплице, издеваясь над снежной белизной. Не оттого ли у них скручиваются изогнутыми сломанными спиралями листовые пластины? А может быть, они вспоминают о шуршащих днях шумных листопадов?
Субтропический лимон должен передать гибриду « Бере Зимняя Мичурина» вегетативным (внеполовым) путем вкус своего кислого сока.
Сны всегда неправдоподобны. Желтые лимоны и лимонные плоды груш не будут расти на одном дереве.
Когда кончатся опыты и будет изучено влияние одного растения на другое, побеги лимона и груши будут отведены в отводочные трубки на свои корни. Маточные экземпляры дадут жизнь новым .гибридам. — Это должно убедить ученых скептиков, — говорит мне скромно-гордый Яковлев, — подтвердить выводы Ивана Владимировича об особенно сильной приспособляемости молодых организмов гибридов к внешней среде. Теперь-то профессора заинтересовались моей химерой.
«И наконец, глубоко интересный и в высшей степени ценный опыт поставлен в нашем питомнике ассистентом П. Яковлевым», — так писал об этом Мичурин в первом томе своих трудов.
Под стеклянными колпаками в цветочных горшках растут яковлевские «химеры». Груши на померанцах. Померанцы на грушах. Лимоны на айве. «Цветут мандарины, привитые к грушам».
Плодовая армия без всяких скрещиваний и марлевых ишачков, под покровительством и управлением молодого агронома ведет борьбу ,«не на смерть, а на жизнь», борьбу клеток, приспособляясь друг к другу, к законам неведомой ни миру, ни даже Козлову теплицы.
По всей теплице, как пасьянс, разложены листья разных мастей. Листья сухие, как в гербарии, и мягкие, как на весенней ветке.
Яковлев рассказывает: — Организм гибридного растения — точно непрерывно действующий вулкан. В этих растительных клетках действует чертовская внутренняя сила, пока гибрид становится устойчивым, а на это надо несколько лет.
Чего он только не вытворяет: то уклоняется, то выбрасывает неожиданные, скрытые в нем признаки, и все из-за внешней среды; это-то, при поддержке Ивач Владимировича, навело меня на мысль «укоренять листья молодых гибридов, и эту работу мы называем «укоренением листьев».
Цветочные горшки Яковлев наполняет прокаленным в печи песком. Сажает с него лист или часть листа. В песке нет органических веществ, и лист не гниет. Но зато он может засохнуть в горшковой пустыне. От засухи лист защищается влажной прозрачной банкой. Его доливают только кипяченой водой, — лист боится бактерий.
Лист пускает корни. Тогда его пересаживают в землю. Корни образует листовая пластина. Под влиянием света она перерабатывает углекислоту воздуха на углерод и кислород. Углерод идет на образование первых корней. Лист образует побеги, после чего ои высаживается в грунт, на открытый воздух. Из листа растет плодовое дерево. Дерево покрывается шубой листьев.
Как быстро совершаются чудеса! Но, подождите.
Рассказывает Яковлев:
— Чудес нет, но до сих пор непонятно, этого не знает еще наука, каким образом листья, не имеющие зачатков почек у плодовых растений, находят силу, чтобы их образовать, каким образом они, обреченные на смерть, выходят из отчаянного положения. Иногда лист живет не одну сотню дней, пока пробьет где-нибудь почку. Символ победы жизни. Иногда же от него ничего не остается, кроме невзрачных бурых корней, которые еще долгие месяцы живут одни, без листовой пластины, и, тем не менее, в один прекрасный день жизнь так же стремительно вырывается наружу из какого-нибудь участка этих, казалось бы, погибших корней. Жизнь в данном случае берется буквально с бою.
— Жизнь вырывается наружу. Она вырывается здесь, в стеклянных колпаках вашей тесной теплицы. Вы говорите прекрасно, вы почти стихотворец, вы ботаник и оригинатор, — продолжайте, Яковлев!
— Тяжелым трудом, сам, своими силами воздвиг лист свой фундамент жизни, дальнейшая же его жиз'нь будет все-таки зависеть от той или другой приспособляемости к окружающей его внешней среде, которая никогда, ни на одну минуту, ни на одну йоту не бывает одинакова.
Яковлев передвигает цветочные горшки.
Вот растение, выросшее из укорененного листа ползучей розы. Но оно выросло не распростертым по земле, а стоячим кустом. Эта роза почти без шипов. Вот укоренившийся цветок примулы. Он зацвел. Листья, выросшие из цветка, дают аромат сильнее, чем сами цветы. Из пятилепестковых они превратились в шести-семи-лепестковые.
— Путем укоренения листьев можно получить совершенно новые сорта растений, не похожие на материнские, с которых были взяты листья для укоренения. Ведь, в самом деле, мы меняем в корне всю работу листовой пластины. Клетки приспосабливаются к среде — это на руку гибридизации — в процессе построения нового растения, а ведь какой необычный путь! Меняется весь организм. Сейчас я вас, должно быть, изумлю. Мы будем продолжать опыты дальше, чтобы только с одного укоренения пестика и тычинки вырастить плодовое дерево. Нет, это не бред! Понимаете, я уверен, я знаю, что форма растения, полученная в результате такого укоренения отдельных половых органов растений, должна измениться до неузнаваемости. И опять повторяю, так как только исключительная приспособляемость к внешней среде молодых, скрещенных между собою организмов и их
отдельных частей может дать такие неожиданный результаты, вот они заманчивые...
— Постойте, Яковлев, Вы не торопитесь, но сделайте остановку. Дайте опомниться... Вы говорите, что получите из крохотной несчастной тычинки плодовое дерево, что вы создадите новые растительные формы и дерево будет новым сортом. У вас, Яковлев, заманчивые перспективы... и на каких-то последующих словах я путаю речь. После этого обычно долго и внушительно жмут руки и желают удачи. Но как-то незаметно выросла внушительная и разросшаяся пауза... Яковлев ставит на место горшки с укоренившимися листьями айвы, груши, винограда. Поворачивает штепсель, и свет горит ярко в наступивших уже сумерках.
Мы вылезаем из теплицы.
Комната. Этажерка с книгами. На полочке бархатные кролики и открытка с почтальоном. На стене крупное лицо женщины среди цветов.
Эта женщина двигается на нас с подносом и приветливой улыбкой. Она только искусная садовница, ей достаточно мичуринских гибридов, в которых часами и днями пропадает ее агроном.
— Да, а все-таки это здорово, — говорю я почти как Галилей и мечтательно ворочаю ложечкой.
Яковлев пьет чай. Потом он садится за стол и пишет:
По поручению Ивана Владимировича сообщаю, что для ваших климатических условий... Не нужно огорчаться, если первый год какой-нибудь сеянец... И только после этого времени превзошел по вкусу даже крымский „Кандиль-Синап" ...Какие вопросы по садоводству в вашем суровом климате еще вас интересуют?.. С уважением...
Жена заводит граммофон. Медленно шипя, как карусель, разворачивает свою силу черный круг, спотыкается о царапины, ломая звуки разливающегося баритона: «Мой Альферд... трс... сын родной», тупая уставшая от круговращения иголка.
Яковлев подписался на бумаге своим круглым размашистым почерком.
Остыл самовар.
Мы выходим на крыльцо.
Сад пахнет жимолостью и акацией. Яковлев подходит к акациям и окунает меня в их запахи. Он знает, как раздвигаются их пестики и из пор выступают едва уловимые простым человеческим глазом капельки сладкого нектара.
Может быть, к ночи соберутся после жаркого дня тучи. Яковлев, Паша, Павел Никанорович, откроет окно. Наполнятся кадки. Женщины будут мыть волосы в дождевой воде.
Так дождевыми струями падают ,в воображения от усталости и запахов сопоставления и мысли.
Обо всем этом надо будет написать... Я расскажу о том, как протекают уплотненные событиями и фактами козловские мичуринские сутки.
Сутки
Гудок врывается в сонные окраины и торжествующе замолкает.
Гудок гудит по-разному. Он то хрипит от недостатка пара, то повизгивает, как будто кто ходит по кошачьим хвостам.
После гудка город снимается с ночного причала и отправляется в дневное плавание.
Гудок раздается затем через каждые полчаса, но его больше не замечают.
Жители города научились слушать и понимать эти гудки, они узнают их среди частых и протяжных паровозных криков.
Козлов перепутал время, когда люди экономили белесые утра, и полночь наступала преждевременно. Часовая стрелка гонялась за даровым светом. Козловцы снялись за часовой стрелкой. Они привыкли к прочному и выверенному времени. Не поспевали за вращением легкомысленной стрелки.
Но вот стрелку не передвигали около года.
Козлов успокоился и знал, что если уж гудит пятый гудок, то наступает десятый час.
Тогда кто-то снова подшутил над городом. Стрелка, послушная декретам и постановлениям, снова потеряла равновесие, подчиненное привычке и рассудку. Козлов сопротивлялся, — это слишком много — снова переставлять все будильники и кукушки. Завтра стрелка может опять повернуть назад, .зачем же сегодня подчиняться ее капризам, когда так ровно и благонамеренно гудит гудок железнодорожных мастерских: «если уж гудит пятый гудок, то наступает десятый час».
Козлов раз навсегда ухватился за гудки.
Гудок — пульс города. Люди встают и ложатся по гудку.
Там, на вокзальном матовом циферблате — московское время, но разве обязаны считаться с ним жители города Козлова, когда так ровно и по-козловски гудит гудок.
Гудок узаконен. Он въелся в сознание каждого местного ответственного работника, часовщика и бывшего члена «козловской лиги времени», безвременно погибшей после двух заседаний в каком-то позабытом году.
На афишах пишут:
ГАСТРОЛИ ГРУППЫ МОРСКИХ СВИНОК И МОСКОВСКИХ КАРЛИКОВ
НАЧАЛО В 7 — ПО ГУДКУ.
Это единственный город, где два времени: поясное и консервативно-козловское.
Из пожарного сарая, без звуков тревожного рожка выезжает, поскрипывая, единственная оросительная бочка Козловского коммунального' хозяйства. Она выезжает на поля орошений — на пыльные мостовые — и плачет редкими мутными струями.
Бочкой заведует отставной пожарник. Он привык блеску и шуму пожарных .машин, до сих пор не расстается со своей каской, натертой до исступления мелом.
Бочка сеет из своего металлического шлейфа капли, поглощаемые и закручиваемые в шарики всепобеждающей пылью. Завбочкой доливает бочку водой у базарного крана и выезжает на базар.
Это очень торжественная минута. Базар раскалывается освобождаемой для бочки дорогой, на две равные части, он начинает двигаться, как плот, отталкиваемый шестом. «Город полит», и бочка скрывается за воротами пожарного сарая.
По всем углам, как тумбы, выстраиваются тележки мороженников. Они стерегут часами прохожих с гривенниками и пятачками.
По улицам прохаживаются люди, о которых сразу скажешь, что
им очень скучно, что им нечего делать и они стараются
выдумать что-либо пооригинальнее. У многих небритые и
 помятые
бессонницей лида. Люди дремлют на ходу.
помятые
бессонницей лида. Люди дремлют на ходу.
Почтовые поезда по шести часов стоят у козловского дебаркадера. Они вытряхивают на козловские мостовые скучающих и неустроенных людей, поглощенных пересадками, стоянием в очередях за билетами, кипятком и вещами. Но шести часов для всего этого слишком много, и в остальное время пассажиры прогуливаются по городу, мечтательно читают вывески, ищут собеседников, спрашивают у широких, как корзины, торговок тыквенными семячками, сколько тысяч жителей в городе.
На скамейках дремлют очень усталые люди, не доставшие билетов и запутавшиеся в козловскком времени, прибывшие на вокзал ровно за пятнадцать минут до отхода поезда... но «по гудку».
Наиболее догадливые идут катать шары в кегельбане в городском саду или уходят к реке.
Дорога идет к Лесному Воронежу, к Донской слободе. С Набережной улицы спускаются вниз ступеньки досчатой лестницы без перил. Открывается вид, точно с Поклонной горы на Москву или с Владимирский горки на мост и Днепр.
В лугах не видно реки. На много километров тянется ровное однообразие; если прищурить глаза, то кажется, что внизу разостлан не «ковер», а только зеленоватая в крапинках клеенка. Крапинки — это люди, двигающиеся по клеенке. Они двигаются непрерывно, как толпа в дверях столичного универмага.
Они не ищут тени. В городе нет тени.
Весь млекопитающий мир стремится к реке и песку. Берега Лесного Воронежа голосисты, всплески и визги стоят над рекой, и изредка перебрасывается, как лесное «ау», голос на ту сторону, где много тени за решетчатым забором:
— Аркашка, лодку!..
 Плотники
строят новый дом. Доски потеют смолой. Летят стружки. Плотники плюются гвоздями,
закуривая махорку. В хозяйственном беспорядке раскинуты у сараев грабли и
лопаты.
Плотники
строят новый дом. Доски потеют смолой. Летят стружки. Плотники плюются гвоздями,
закуривая махорку. В хозяйственном беспорядке раскинуты у сараев грабли и
лопаты.
Мичурин выходит из сада. Смотрит на работу плотников. Они несут на .плечах балку, он подходит ближе и щупает доски.
— Ты бы не так нагибался, пальцы-то шире расставь, а то смажет, занозу тащить будешь.
— Ничего, Иван Владимирович, наше дело не цветочное, смажет — жаловаться не пойдем.
— Вот чертовщину какую строят, чорт-те-што будет» а только фундаменты не высокие. Весною бревнам мокро удет, кирпичом скупитесь, да и новоселье, говорю, не скоро, справлять будем, — к зиме, может, поспеете, а?
— До зимы недалеко, Иван Владимирович.
— Все близко, а говорили, весною готово будет, врать-то—оно легко. Вот ходит со мной человек, все слушает, а потом обязательно наврет, когда напишет, уж такая его доля.
Достается всем: и плотникам, и очеркистам.
— Ну, идем, идем! Да смотри, если говорить что буду, ты пиши, американцы — они все записывают. Пишут себе и молчат. Это только наши — шалдай-валдай, ушами хлопают.
Мы идем на веранду мичуринского дома. На веранде достается и воробьям. Они клюют перила, не пугаются нас, улетают и снова возвращаются.
— Бездельники, бездельники, скоро от жира летать перестанут! Да, для того, чтобы одно царство знать, надо и другое понять. Вот воробьи, что они за тварь, как они питаются, какой у них устав? Да ты этих-то пустяков не пиши, баловство одно получится.
Мичурин вынимает кисет, и тогда действительно достается воробьям. Они привыкли к Мичурину. Воробьи с ним в дружбе.
Садовод всюду, где только можно — на сараях, на веранде — устроил воробьиные гнезда, — подвешенные продолговатые ящики с дырками. Даже в скворечнике, качающемся над персиками, вместо скворцов живут воробьи.
Несколько раз в день Мичурин выходит на веранду.
Достает из кисета зерна и кормит с рук воробьев. Они как бы выстраиваются в очередь.
— Ну, на, на, да убирайся поскорей, тебя народ ждзт, ну, пошел!
Воробьи терпеливы. Они получают должное и улетают. Но через несколько минут вновь возвращаются и, точно в благодарность, как вещественное доказательство, приносят в клювах помет птенцов.
Мичурин дробно смеется и стряхивает палочкой воробьиные дары.
В пасмурные же дни, когда старик не появляется на веранде, воробьи кружатся, подлетают к окну, клюют подоконник, бьются крыльями о стекло.
Раньше у Мичурина жила ручная галка. Она всюду следовала за садоводом, как попугай за шарманщиком.-Она ревновала Мичурина к жабе. У Мичурина была и жаба. Он кормил жабу. Но это было очень давно, когда он с удочками выходил к Лесному Воронежу и часами сидел на его безлесых берегах.
Жаба чувствовала Мичурина, как Мичурин растения.
Она различала его запах среди запахов воды и тины. Выползала из реки и прыгала прямо на руки рыболова. Она знала, что он не смахнет ее с ладони. Рыболов доставал кисет и кормил жабу. Рыбы же спокойно глотали червяков.
Галка была недовольна. Она с удовольствием выколола бы жабе большой расползшийся овалом глаз.
— Да, тварь меня любит, — это потому, что я за природу иду, изучаю законы природы. Вот это ты можешь записатъ. Я животными интересуюсь, да нет только времени и знаний с ними штуку выкрутить, все так слышь, вроде, как для забавы с ними вожусь... уж больно она, жаба, смешная была, — только выдумать — из реки да на руки.
— Иван Владимирович, мы вас ждем,—раздается ослабленный расстоянием голос.
— Это еще что такое, «ждем», чего тебе, — кричит Мичурин. Он всех одинаково называет на ты, будь это Аркашка или академик Вавилов.
— Иван Владимирович, снимать вас будем, уж больно хорошо светит.
— Светит, говоришь, — печет, а не светит, это мыслимо, что ль, на такую жару итти!
— Иван Владимирович, у нас съемочные дни.
— Ну, снимай, снимай, раз у тебя дни съемочные, а у меня они обыкновенные дни.
— Иван Владимирович, вы должны быть в кадре.
— А ты Пашу позови и Веру Николаевну, они в твоем кадре и поместятся.
— Нет, Иван Владимирович, картину-то о вас ставим.
— А что, подумаешь, не видали меня, что ли? Вы Веру Николаевну снимите у лилий, у ней волосики да косыночки, а на меня, на старика, нагляделись, слышь, да гибридов сними побольше, их никто не видал, все мадоннами любуются.
— Иван Владимирович! ,
— А ничего, что пиджак у меня не для парада, аппарат такой снимает, аль ему франтов подавай?
Мичурин сходит с веранды. Кричит вдруг срывающимся, вначале резким, потом протяжным, голосом:
— Ну, давай культ-шельму свою скорей, а то лопну вот надоели, чорт-те-што!
Оператор гудит, как взбунтовавшийся улей, аппаратом, движениями, громким голосом. Он не может скрыть своего нетерпения и прыти. Мичурин же не обращает внимания на всю эту кинематографическую деловую суетню.
Он идет медленно, убирает на ходу своей палочкой сучья на дорожке. Достает ножницы.
Режиссер и оператор, как бегуны на старте, хотят сорваться до свистка, но свисток не свистит, и Мичурин срезает с дерева засохшую ветку. Он встречается с человеком и останавливается. Человек служит в горисполкоме и внушительно жмет мичуринскую руку.
— Ты чего за своими делами не смотришь, а еще заведующий? Дорогу починить не можете! Тебя бы носом по этой дороге, чтоб пыли наглотался; вот размотает ее дождями, тогда ты в калошах в питомник не пройдешь, в телеге — и то утонешь в грязи. Слышь, говорю, ты этот вопрос на повестку нацепи, обязательно, говорю.
 —
Да я, Иван Владимирович...
—
Да я, Иван Владимирович...
— Ну, иди, иди, вишь, вон ждут, в.иллюзионе глядеть меня будешь.
Мичурин у аппарата.
— Ну становь меня куда-нибудь в кадр-то твой. Оператор и режиссер сорвались со старта.
— Вот так, только в аппарат не смотрите, ножницы вот так держите.
Наконец все установлено. Оператор берет ручку. Мичурин больше не шутит. Его лицо становится острее, морщины натянуты, потом он как будто спрашивает позволенья улыбнуться. Его губы нарушают мимический натюрморт, они съезжают с установленного выраженил, и Мичурин как будто собирается сказать что-то короткое и смешное.
— Срезайте ветку, — громким шопотом кричит режиссер.
В паузу врывается легкий проверенный треск, как будто заводят гигантские часы. Через минуту Мичурин достает платок:
— Ну, и замучили, ну, и артисты, в жисть больше не буду, как будто пятки кто чешет!
— Иван Владимирович, еще один маленький кадр, две секундочки, — и режиссер снова становится дипломатом, ему помогают плотники, оставившие работу для того, чтобы видеть кино «в натуре».
Наконец Мичурин свободен. Аппарат уносят в сад, и садовницы спешно поправляют платочки и снимают листья с носов.
Город отплыл еще дальше в своем дневном плаваньи. Жар становится невыносимым. На улицах города, проросших травой, как на проселочных дорогах свирепствует пыль.
Как нарочно, в жаре разыгрываются суховеи, они захватывают собой навоз, песок, золу.
Асфальт становится мягким, как войлок.
Жара гонит людей к реке. Они млеют в дремоте, как полусонные налимы.
Суховей шумит и пропадает в верхушках деревьев .мичуринского сада.
У Мичурина в комнатах прохладней, чем на реке.
Вымытый досчатый пол устлан дорожками. Домовитые запахи обжились в доме. Так пахнут сундуки и чуланы. Во всех углах, должно быть, много вещей, которые в другом доме, пошли бы в мешок старьевщику и в печку. Но здесь на них незаметная проба времени. Вот этой деревяжкой очень удобно вбивать костыли и крючки. На стенах множество крючков, на них висят на шнурах холщевые мешки и полочки.
Мы подымаемся наверх, где кабинет, рабочая комната, склады, спальня помещаются у Мичурина в одной комнате.
Мичурин с облегчением садится в большее деревянное кресло, изрезанное ножом, как школьная парта.
Он снимает свой чесучовый пиджак и развертывает газету.
Я оглядываю комнату.

Как будто только что ее оставили мальчишки, клеившие бумажные змеи. Разбросаны банки и жестянки. На столах много шпагата. Повсюду бумага, исписанная мелким почерком, рисунки и диаграммы.
На подоконнике сохнут фотопластинки.
Потолок и стены обвешаны щедро, как урожайная яблоня плодами. Здесь и сухая трава, и высушенная рожь, и мешки с семенами, и банки с косточками. Все это может достать Мичурин, протянув руку со своей кровати, которая скрывается под баррикадой свисающих отовсюду сухих растений и плодов.
 Стена
увешана часами, как витрина магазина. Все они показывают разное время,
остановились еще в девятнадцатом веке. Исправленные же часы бьют одновременно,
но по-разному. Висят тут и часы без циферблатов, циферблатов
без стрелок, — словно паровозные кладбище около депо.
Стена
увешана часами, как витрина магазина. Все они показывают разное время,
остановились еще в девятнадцатом веке. Исправленные же часы бьют одновременно,
но по-разному. Висят тут и часы без циферблатов, циферблатов
без стрелок, — словно паровозные кладбище около депо.
Из письменного стола выглялывает незадвинутый ящик, он наполнен стрелками, колесиками и пружинами.
Мичурин скупает у козловских часовщиков весь хлам. Его пальцы требуют возни.
Я поворачиваю голову, и на меня со всех сторон смотрят колпаки, провода и проволоки, как будто это не комната, а карман электромонтера.
В углу я замечаю индукторы и небольшую динамо-машину. Тут же токарные и сверлильные станки; а сколько тисков, щипцов и ножниц. Потом становится ясным, что это не беспорядок, что все это расставлено по особой системе, а ножницы и рубанки висят на специально для них вбитых гвоздях.
Мичурин переворачивает газетный лист, а я все размышляю. Поражает соседство инструментов с висящими в стеклянных ящиках бабочками, пахнущими сухостью трав, с наждачной пылью на подносе.
Но я еще не все осмотрел. Вижу коробки с запонками, накрахмаленные манжеты, мундштуки самодельные и с инкрустациями; вижу целую коллекцию палок с перламутровыми набалдашниками и конверты с разноцветными подкладками. На полках кипами лежат книги. Журналы разложены как на щитах букиниста. Свежие номера «Вестника знания», «Хочу все знать», «За рулем», «Огонька» и «Крокодила».
— Ну, что, разглядел мое бытье? — Мичурин кладет газету. — Я с этим инструментом всю жизнь иду, он у меня инструмент послушный. Вот, гляди, какие я машины смастерил. Это у меня аппарат для выжимки розового масла, а вот машинка, чтобы табак резать. А этот аппарат я сам сделал, плоды им снимал для иллюстрации, а вот линзу в «кодак» я тоже собственного производства вставил. Ну, еще что там? В нашем деле погода — самая важная материя. Градусники всех тонкостей не показывают, так .вот я барометр смастерил, отослал на Сельскохозяйственную выставку в павильон повесить, да жулики стащили. Пришлось снова его сколотить. Однажды меня самого за жулика из-за техники-то приняли. Смастерил я для сада ножницы своей конструкции, чтобы не хуже бритвы резали, зря бы не раздвигались, — вот, видишь, все дело тут в этой задвижке. Послал я Брабецу ножницы в Москву. Прошу по образцам мне дюжину сработать. А он, Брабец, догадлив был, говорит, значит, зачем вам ножницы такие, мы, говорит, воров инструментом не снабжаем. Ну, пойди, втолкуй ему, когда он, Брабец говорит: «А ножницы свои назад в полицейском управлении получить можете, только там их вам для баловства не дадут обратно».
Больше всего ценит Мичурин свой барометр.
— Вот ты думаешь, что фабричные барометры не врут, — все вы врете одинаково! А должен тебе сказать, что фабричные анероиды с большим недостатком на стенах висят. Как только температура повышается, — стрелка, указывающая давление, вниз падает, на грозу показывает, а все оттого, что нет в них части, которая вычисляла бы расширение металла. Она ведь, стрелка, от жары расширяется. А в моем барометре есть особый механизм, он математически вычисляет расширение металла, потому что я нашел особый сплав из двух металлов. При повышении температуры один расширяется, а другой задерживает это расширение. Вот тебе и фабричные барометры. Понял?
— Понял, Иван Владимирович, а вот только...
— Ну довольно, довольно, надоел ты мне больно сегодня! Мне вздремнуть пора, а ты ступай, — что у тебя, делов, что ль, нет... Вот возьми на полке журналы, я ведь тоже в журналах писал, тебе почитать полезно будет; а после обеда приходи опять, я тебе анекдоты расскажу. А еще попрошу: потяни-ка штору.
Я закрываю целое окно солнца и выхожу, нагруженный толстыми книгами, из полумрака.
Мичурин спит среди семян и инструментов. У меня же есть «дела»: пока у него в комнате спущены шторы, расскажу вам легенду с цитатами о русском Бербанке.
Легенда с цитатами о руссном бербанке
Легенда начинается в субтропиках, в стране Калифорнии, где «вечно дышат розы», порхают нарядные птицы в апельсиновых и пальмовых рощах. В этой стране живет мистер Бербанк.
Он не был министром, но у дверей его дома висела надпись:
МИСТЕР БЕРБАНК ЗАНЯТ НЕ МЕНЕЕ МИНИСТРОВ ВАШИНГТОНА И ПОЭТОМУ ПОЧТИТЕЛЬНЕЙШЕ ПРОСИТ ПУБЛИКУ НЕ БЕСПОКОИТЬ ПОСЕЩЕНИЯМИ.
У мистера Бербанка было тринадцать братьев. Четырнадцатый сын любил играть кактусом без колючек и нюхать цветы.
Перед тем, как стать знаменитым садоводом Бербанком, Лютер был плотником, денег не имел, спал вместе с курами в клетке и любил машины.
В Калифорнии течет река Русская, и впадает она в Тихий океан. На этой реке стоит город Севастополь, а у этого города гектары бербанковских земель.
Гуляет Бербанк по саду, любуется на цветочки, на кактусы без колючек, на малину с земляникой, айву с яблонями, на сливу без косточек.
Он богат, Бербанк. Казна дает ему много денег. По горам Гималайским рыщут его агенты и садовники, растения Бербанку шлют.
С реки Русской легенда перебрасывается в РСФСР, в среднюю полосу, в город Козлов, где Лесной Воронеж не впадает в океан, где от морозов трескаются вековые дерева, где на лету мерзнут птицы.
У Лесного Воронежа живет старичок с палочкой. Он не сравнивает себя с министрами Вашингтона. Но старика хотят похвалить, и сравнивают его с мистером Лютером Бербанком. У козловского старика нет миллиона растений, он отдыхает за спущенными занавесками, и на его веранде человек перелистывает старые порыжевшие журналы. Он читает:
ЕЩЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Л. БЕРБАНКА
Неданно я имел удовольствие беседовать с уполномоченным
 департамента
земледелия Соединенных Штатов Америки г. Мейером и в разговоре коснулся
деятельности Л. Бербанка. По слонам г. Мейера, — „У Бербанка нет ни
последовательности, ни специальности, вся его работа носит какой-то хаотический
характер. Происхождение всякой новости держится в строгом секрете, и Л. Бербанк
не считает нужным посвящать в подробности посетителя. Собственно
говоря Бербанк мало гибридизирует, и у него нет определенной
цели. Прежде всего он старается поразить
колоссальностью, гигантскими размерами ягод или цветов. Действительно,
некоторые растения под влиянием культуры Бербанка стали просто неузнаваемыми, —
возьмем полевые маргаритки, общелюбимый и национальный цветок американцев. Разновидности,
выведенные путем подбора «Калифорнии» «Аляски» и сВестфалии», очень красивы, но
мало отличаются друг от друга... Сопоставляя с практической стороны работы Л. Бербанка
и нашего уважаемого И. В. Мичурина, г. Мейер говорит: «Все располагает в пользу
пользу последнего. Будь в Америке такой Мичурин, там
озолотили бы его».
департамента
земледелия Соединенных Штатов Америки г. Мейером и в разговоре коснулся
деятельности Л. Бербанка. По слонам г. Мейера, — „У Бербанка нет ни
последовательности, ни специальности, вся его работа носит какой-то хаотический
характер. Происхождение всякой новости держится в строгом секрете, и Л. Бербанк
не считает нужным посвящать в подробности посетителя. Собственно
говоря Бербанк мало гибридизирует, и у него нет определенной
цели. Прежде всего он старается поразить
колоссальностью, гигантскими размерами ягод или цветов. Действительно,
некоторые растения под влиянием культуры Бербанка стали просто неузнаваемыми, —
возьмем полевые маргаритки, общелюбимый и национальный цветок американцев. Разновидности,
выведенные путем подбора «Калифорнии» «Аляски» и сВестфалии», очень красивы, но
мало отличаются друг от друга... Сопоставляя с практической стороны работы Л. Бербанка
и нашего уважаемого И. В. Мичурина, г. Мейер говорит: «Все располагает в пользу
пользу последнего. Будь в Америке такой Мичурин, там
озолотили бы его».
Оказывается, что г. Мейер очень осведомлен и заинтересован работами И. В. Мичурина по гибридизации: «Насколько у Бербанка происхождение нового сорта секретно, настолько у И. В. ясно. Происхождение каждого известного сорта подробно им выражено, и это — главная задача производителя, чтобы ознакомить потребителей с достоинствами сорта.
Порицая во многом деятельность г. Бербанка, г. Мейер отдает должное трудам нашего уважаемого И. В. Мичурина; тем более должен быть лестным для нас отзыв такого беспристрастного и компетентного лица, как г. Мейер, и предпочтение, которое он дает нашему уважаемому гибридизатору перед своим соотечественником.
Так писал сотрудник журнала „Прогрессивное Садоводство и
Огородничество" в
«Русский Бербанк» мало что знает о Лютере Бербанке, он не читал двенадцати томов, изданных «Общестом имени Лютера Бербанка», он не читал и многотомной истории о днях и грудах американского садовода.
Мичурин читает статьи, — все они гордятся повторяемым без конца заголовком «Русский Бербанк». Тогда он морщится, но дочитывает статейку и подсмеивается над ее автором.
Мичурин еще лет двадцать назад, когда его никто не называл «Бербанком», писал:
Далее, нахожу нужным предостеречь русских садовников от традиционного увлечения всем иностранным, в том числе и различными теориями выведения новых сортов плодовых растений на Западе Европы и в Америке... Ничего нет удивительного в успехах хотя бы того же Бербанка, о котором так много нашумели, потому что успехи его достигли таких результатов не от способов, примененных им в деле, а единственно от широкой материальной помощи, оказанной делу Бербанка как обществом, так и правительством...
Бербанк — не легенда. Это очень уважаемый и талантливый человек. После того, как о нем рассказывал несколько пренебрежительно Мейер в -своем интервью, Бербанк еще много жил .и много сделал. Ведь не виноват же он в том, что Америка отнеслась к нему иначе, чей Россия к Мичурину. Бербанк даже один из лучших американцев: он поборол нужду, много работал, многого достиг.
Никто не ниспровергает Бербанка с места, им заслуженного. Он искусно владел отбором растений, вывел знаменитый сорт «бербанковской картошки».
Бербанк умер.
Он лежит среди роз в стране Калифорния, «где вечно дышат розы».
Да, Бербанк не легенда.
Не легенда и козловский Мичурин.
Это только простачки называют его «кудесником» и «чародеем».
Какая же легенда, когда ворчит этот старик, разве можно назвать его легендарным героем, когда он уже и так имеет орден Красного Трудового Знамени. Он призывает к жизни растения, еще не виданные миром, заставляет две породы вопреки всяким «законам» слиться воедино и дать начало смешанной расе.
Простачки называют это «чудом», кто поразвитее — «творчеством», а люди толковые и деловые — «выведением из семян новых культурных сортов плодовых деревьев и кустарников».
Нет, Мичурин не легенда.
Но сочетание Мичурина и Бербанка, гибрид, выведенный без особого уменья и внимательности, называемый «Русским Бербанком» — это легенда.
Ее сочинили популяризаторы и фельетонисты. Подумайте, как удобно: Бербанк работал на фабрике и что-то изобретал, Мичурин был часовщиком и что-то изобретал; Бербанк любил нюхать цветы, Мичурин — тоже; Бербанк возится с растениями, Мичурин — тоже; Бербанк известен всему миру, Мичурина не все знали даже в Козлове, — значит, он «Русский Бербанк».
Мичурин стал известен как «Русский Бербанк».
Это ничего, что американская одежда, в которую его облачили, тесна и трещит от усиленного натягивания на Мичурина. Ведь не будет же он давать объявления в газеты: «меняю свою фамилию — («Русский Бербанк» — на просто «Мичурин», без всяких «Бербанков».
«Бербанк любит нюхать цветы», Мичурин тоже «вдыхает их аромат». Бербанк выводит новые сорта. Его опыты обнаруживают, что методу скрещивания природа ставит преграды, отказывая в плодовитости помесям, полученным от скрещивания родителей, слишком далеких между собой. Он скрещивал малину с земляникой и айву с яблоней, получались весьма интересные помеси, но они оказались совершенно бесплодными, и опыт не мог итти дальше.
А Мичурин?
В саду Бербанка происходят Варфоломеевские ночи ,-«однажды было предано уничтожению не менее шестидесяти пяти тысяч гибридов ежевики и малины». В мичуринском саду тесно от старых деревьев, выведенных человеком, состарившимся вместе с ними.
Надо сравнивать мучуринские гибриды с питомцами мистера Бербанка. Виноград на яблоне, выдержавший зимою сорокаградусные морозы, и знаменитую бескосточковую сливу, растущую в теплой Калифорнии.
Мичурин создал свою систему и методы. Этого не найти в многотомных трудах Бербанка, наполненных пышными описаниями и картинами в красках. При имени Мичурина можно вспоминать Бербанка только для того, чтобы подчеркнуть глубину их различия и условий их работы.
—. Ах, Мичурин, что-то помню, ах, да, ну, конечно, знаю, Бербанк, отлично помню!
Имя Мичурина до сих пор существует каким-то примечанием, сноской, набранной петитом, при Бербанке. Почетное наименование Мичурина «Русским Бербанком» пропитано непониманием и несуразностью. (Это раскрывает очень многое. Почему бы не назвать Бербанка — «американским Мичуриным»? Из-за какой скромности меньшим мы называем большее?
Академик Вавилов в 1921 году посетил плантации Бербанка, он уехал оттуда восхищенный его работой. В Америке Вавилов услыхал ог профессоров, справлявшихся о здоровье Ивана Владимировича, имя Мичурина. Только после этого он поехал к Мичурину в Козлов. Только в 1923 году страна узнала о существовании Мичурина, в то время, как несколькими десятилетиями раньше американские научные институты почти ежегодно посылали в Козлов своих сотрудников.
В 1929 году случайно мы узнали, что короткометражная фильма о Мичурине — «Юг в Тамбове» — с громадным успехом прошла в Бостоне, в Вашингтоне, Нью-Йорке, в то время, как у нас этой фильмы никто не заметил; только после этого урока мы догадались расширить картину, пополнив ее новой засъемкой. Скоро «Юг в Тамбове» появится на экране, но она не появилась бы, если бы ей не помог в этом успех у «американского дядюшки».
Я перелистываю пожелтевшие журналы.
Страна узнала о Мичурине в 1923 году. Статьи Мичурина начали появляться в русских журналах с 1886 года. Кроме кучки консервативных садоводов, их никто не читал. Но и среди них были те, которые за несколько десятков лет перед тем, как имя Мичурина стало произноситься без усмешки и иронии, писали:
Если бы какому-либо заграничному
гибридизатору удалось достичь подобных результатов, — имя его не сходило бы с
журнальных страниц. А мы, русские, к родным талантам относимся как-то странно,
лишний раз доказывая, что в своем отечестве пророком делаться
хитро.
«Прогрессивное Садоводство и Огородничество»
В 1908 году Мичурин писал в «Вестнике Садоводства»:
Мы издавна привыкли пользоваться только тем, что случайно попало нам под руку или что легко потянуть у соседа. Мы закоренелые копиисты И для того, чтобы сделать что-либо свое оригинальное, мы не желаем ударить палец о палец.
Никто не ударял «палец о палец».
В 1914 году:
...Что за благодать, подумаешь,
для г. Мичурина, что он состоит почетным членом разных ученых обществ? Это
членство «для медали» один лишь звук пустой! Вы дайте ему субсидию, да не
грошовую и не как подачку (ее не примут), а как свой долг, как обязанность!
Тогда г. Мичурин не вправе будет бросить упрек родным ученым учреждениям,
упрек, который они вполне сейчас заслуживают. Что же касается трудов
г Мичурина в плодоводстве — они известны даже в Америке.
Посетивший меня зимой в
(«Садовод».)
Немножко ли?
В пожелтевшем годовом комплекте журнала я наткнулся на последнюю цитату в «легенде с цитатами о русском Бербанке»:
В номере двадцать шестом сообщалась беседа с Мейером. — «Еще о деятельности Л. Бербанка». «Мейер отдает должное трудам нашего уважаемого Ив. Вл. Мичурина». В номере 36 значится петитом — «подписчику»: „Ответа мы до сих пор не получили, предполагаем что Иван Владимирович выехал из Козлова, Питомник его, повидимому, больше не существует».
Легенда начинается в субтропиках, в стране Калифорнии, «где вечно дышат розы», порхают народные птицы в апельсиновых и пальмовых рощах. С реки Русской легенда перебрасывается в РСФСР и кончается в средней полосе, в г. Козлове, где Лесной Воронеж не впадает в океан, где от морозов трескаются вековые деревья, где на лету мерзнут птицы, и где сегодня слышится стариковское покашливание.
Раздвигаются шторы, и льются в окно лучи солнца.
Сутки продолжаются
Мичурина дожидаютст люди, перевезенные Аркашкой.
Они сидят на ступеньках и не идут в сад. Да разве им до сада, когда у них, может быть, поясницу ломит или нарыв нарывать не хочет, или под ложечкой ноет.
Что бы этой женщине скинуть платочек и развязать узелки. Она же их стягивает туже и качает головой в такт своим словам.
— Бедный, бедный, а ты пробовала вниз головой класть да льдом тереть?.. Вот страсти какие!.. Ты бы льдом его, льдом.
— Глицерином :язык мазать надо, тогда сразу на ноги встанет.
— А вот еще, когда в баню пойдете, в шайку соли насыпь, — такой рассол ему будет, что и пить забудет.
— А ты что — пробовала?
— Зачем мне пробовать, у меня муж не какой-нибудь там пьяница, у меня муж не пьяница, у меня...
— Так и не любит?
— У него любвей много, а мне страдать.
— Страдать, скажите, пожалуйста, какие страданья — не пьет, и ладно! Да ты чего смотришь, ты ему нос накрути, вот и весь разговор будет!
Так трещат на ступеньках словесные пулеметы, и пули летят без разбора, на лету разыскивая цель.
— А он что, лекарь?
— Знать, лекарь, если народ ходит.
— Про них и в заграницах пишут.
— Ей-бог, поможет, пошли ему здоровьечко. На ступеньку, сдувая пыль, садится мужчина.
Он общипан, худ и не вмешивается в разговор. Как будто стесняется самого себя. Кладет руки в карман, но сразу вынимает, как обожженные. Опускает голову и смотрит на носок ботинка, где мотается язык подошвы.
Аркашка в стороне сматывает удочки.
Человек сидит тревожно, но настойчиво.
Аркашка вешает на дерево сушить косоворотку. Беспомощно обнимают ствол болтающиеся рукава...
...«Шар потерял свою округлость и рассыпался. Уносимые пушинки теплым душем пролились над рукой изумленного старика...»
Мичурин стоял у тибетской травы. Мейер рзссказывал ему: «Растение радиоактивное — целительное средство тибетской медицины».
Мичурин сделал настойку травы на иоде. И с тех пор у него, как «у всякой лекарки свои припарки», тибетская трава стала своей припаркой. Для себя и других.
Дверь открывается. Первой на веранде появляется палочка, она как разведчик.
— Ну, что, прочитал, понял что, а может, тоже заснул как сукин сын? Молодые, слышь, спать любят.
— С добрым утром, Иван Владимирович!
— Насмешник, погоди у меня, живо скрещу тебя с помидором, огурцом станешь, а это что такое здесь за представление? Удобно матушки расселись, и говорить нечего.
Мичурин морщится, и палочка его как будто хочет сорваться и поскакать по ступенькам наводить порядок.
— Чего высиживаете, бездельники, знаю я вас! Аркашка!
Аркашка быстро натягивает рубашку, и его голова появляется между перил.
— Чего привез их, — говорят, больных дурью не вози! Чего с ними буду делать, воробьев кормить, что ли? Говори, зачем вез!
— Они велели, у нее муж от запоя страдает, они велели.
— И...ван Вла...а...а...а...ич, родной, целую неделю пьет, а мне мочи нету, что это Иван Вл ..а., а, будет, на чем свет стоит,—юбку-то мою, юбку, юбку.
— Юбку, да ты ошалела, отвяжись, говорю!
— Юбку пропил, отучи ты его, богом проклятого, отучи ты его, отец наш, как есть батенька, отцом будь, зелья дай, батенька.
— Ошалела, прямо ошалела, да какой я тебе батенька, тетенька!
— Послушайте, господин фруктовый доктор, сказывают, есть такое средство в плоде, что мужа приворожить можно, скажите нам насчет этого, нельзя ли будет между прочим для нас, бедной женщины, такое дело устроить.
—...Юбку пропил, жить на что будем...
—...По чужим бабам шляется...
Мичурин рассердился, он не выдерживает голосистого дуэта.
Бабы наступают.
— Пошли вон! Чего на ум взбрело! Чтобы больше с дурачьими штуками не лезли, что я — знахарка какая, чулки вам на языке штопать!
— Куда гонишь, я с Моршанского уезда к тебе приехала, а гонишь, какой нескладный.
— Вот семян могу дать, чтобы в Моршанском уезде засадили, и больше ничего вам не будет.
— Нам семян не надо, ты нам совет дай, о тебе слух ходит, средствия от запоя имеешь, чудесную силу знаешь.
— Ничего не имею кроме касторки! Ну, довольно, некогда мне с вами возиться, пошли по домам, да языками если трепать будете, так и говорите: ниче он сделать не может и никаких зельев не имеет. Правду говорю! Ну! Аркаш! вези их, — тоже, вертихвостки, ворожею нашли. Слышь, так и говорит — «мужа приворожить можешь».
Бабы ушли, как будто их сзади подхлестывал кто веником. Но это, конечно, не Аркашка. Аркашка идет впереди, как ружье качает весло на своем плече.
Человек поднялся со ступенек. Он поднялся так, как будто хотел взять костыли.
— Мичурин, мне ворожить не надо.
— Вот-те, да откуда ты взялся! Вот денек, пропади
|— У меня это, как называется, живот болит, лесник я.
— В лесу живешь или в конторе, много вас таких развелось.
— Силы у меня нет. Майорский лес у меня.
— Слыхал — ольхи, говоришь, много, река в лесу течет.
— Течет... силы хочу иметь, а там все корежится.
— Лет тебе немного, а силы нет, бесстыдник.
— Вот потому и пришел, жизнь тяжелая была.
— Ну! а мне какое дело, а ты тоже все-таки с дурцой.
Лесник с Майорского леса вошел на веранду и надвинулся на Мичурина, как шагающий на зрителя актер на экране, снятый крупным планом.
— Язык посмотрите.
Он высунул язык, не изменяя позы.
— Это что у тебя—язык вместо зеркала, чтоб я глядеться туда стал; ты скажи, у какого фельдшера лечился.
Мичурин старался разглядеть затылок лесника.
— Ну, слушай, молодец, ждать умеешь? Спрячь язык, да не сопи ты на меня, жди, сейчас приду.
Палочка осталась на месте.
— Притворяется старик, —.сказал лесник и сплюнул.
— Хороший старик, — добавил он резко, как будто сразу же раскаялся в произнесенной фразе, и замолчал.
Мичурин торжественно вынес темный пузырек и поставил его на стол.
— Послушай, ты, вот что я тебе скажу, ты склянку возьмешь, так знай, что тебе это не микстура, чтобы рот полоскать, к этому уважение иметь надо. Если бы я тибетскую мою жидкость с иодом не пил, слышь, я скажу тебе, давно бы я мышей и блох не давил.
— А как ее глотать, чайной или столовой?
— Слушай, говорю, не перебивай, — ты молодой, не лысый еще, так сиди, прошу, спокойно. Пришла ко мне раз сельская женщина с подростком. Рана у него не заживает. Просила меня. Что же с нею сделаешь? Не всех же гнать, когда болит! Ну дал я ей мазь. А мазь черная, на барсучьем жире, и влил я в мазь вытяжек из тибетской травы. Прошло время — опять приходит сельская женщина. А сын ее смеется. И мне сдуру смешно стало, — такой хохотун. Мать говорит: «Рана-то прошла, зато вам и спасибо, но когда зажила она, вся волосами как шерстью обросла. Хоть косы вяжи». И гляжу я, действительно, у него на месте раны борода растет. Так ты лесник, лесники еще с испокон веков лохматые бывают, ты мазью с жидкостью лысину помажь, а потом ступай прямо к парикмахеру. По дороге волосы длиннейшие вырастут, и стричь удобно. А ты лысый будешь, видно... Ухватка у тебя, слышь, лысая.
— А как ее глотать, чайной или столовой?
— Жидкость эта, слышь, силу большую имеет, особенно для желудочных заболеваний, и при немоготе всего организма. Она сильная жидкость, не смотри, что из травы, — они, травы, разные бывают. Вот то и плохо, что мы трав наших мало знаем. Лекарственных растений в природе целый склад, а что мы о них знаем? Жидкость-то эта ткани организма укрепляет, ее всегда пить полезно, особенно нам, старикам.
— Я не старик, я спрашива...
— Да отвяжись, ты, сказал тебе чайной, а ты все пристаешь, чайной, понял?
— Понял, — а если не поможет?
— Тогда и приставать будешь, а теперь ступай. Надоел ты мне! Только не забудь, зайди через месяц, тогда и язык смотреть буду...
— Приду, жив буду, — и лесник Майорского леса ушел, не попрощавшись, без слова благодарности.
— Ему помощь даешь, а он взглядом грозится... Разные фрукты в человеческой породе существуют, — сказал Мичурин, закуривая мичуринский табак.
Люди, прослышавшие о жидкости тибетской травы, надоедают садоводу. Он многим отказывает в нел. Но и избранных набирается много. Жидкость обходится Мичурину несколько сот рублей в год. Отпускает он ее только бесплатно. Многим она действительно помогает. Об этом знают козловские врачи. Они покровительствуют «знахарке», что врачует и колдует за Донской слободой.
— А вот и Бахарев, ступай сюда, будет собак гладить! — закричал Мичурин навстречу скрсмно появившемуся человеку.
Это — местный публицист, фельетонист и редактор, один из немногих собеседников Мичурина.
Не поверишь, что этот человек фельетонист. Он мягок и восторжен, как лирическое стихотворение. С какой-то особенной восторженностью, но метко и здорово разоблачает он в газете «Наша правда» конкретных носителей зла города Козлова.
Бахарев скорбит за весь город. Печалится о его еще далеко не устроенной жизни. Может быть, поэтому так преданно привязался он к Мичурину и к его плодам. Переживает, как садовод, рождение каждого нового сорта, изучает и исследует мичуринские дела; при случае всегда готов своим ровным голосом произнести проповедь о гибридизации и обновленной земле. Бахарев приносит с собой в карманах тассовские известия. Правит на мичуринском столе международные телеграммы, события пачками лежат на столе и как бы ждут мичуринских комментарий.
Бахарев особенно увлекается, когда разобраны все телеграммы и Мичурин начинает говорить... так вообще... Тогда начинается дискуссия. Бахарев усиленно вспоминает подробности о диалектическом материализме и всевозможные премудрости из прочитанных книг. Мичурин же задает вопросы, неожиданные, как ход в шахматах. Так разрастаются самые сложные разногласия. «Человек — это что муравь; человек — что есть червь, а может быть, еще меньше, как микроб какой. А для законов вселенной какой-нибудь муравь больше, чем человек. Человек считает себя царем вселенной. Вот глиста. Живет она себе в кишках и о человеке понятия не имеет. Для нее, может, и человек больше вселенной. Думает она, глиста склизкая, что все только для нее и существует. А может, человек в каком-нибудь теле, что глиста в человеке, вот она в чем штука-то. Вот о том, что верблюд сквозь игольное ушко в рай не пройдет, это знают, а что в этом ушке, может быть, миллионы живых существ копошатся — об этом и думать не хотят».
Мичурин глубоко вздыхает. Как будто ему очень трудно защищать первенство во вселенной всех муравьев, червей и миллионов живых существ. Как будто он очень зол на людей. Не дает Бахареву вступиться за их попранные права.
На козловской досчатой веранде мы слышали, как человек, создающий новые формы природы, говорил о законах природы, о бесконечности возникающих преград перед человеком, о внутренней силе исканий, о человеческом невежестве, нелюбопытстве и самомнении. Его обобщения направлены не против человечества, но против паразитов человечества — «о,времена,о,нравы!» — о, неточность и расплывчатость стариковских формулировок! И как бы поясняя их, Мичурин добавляет:
— Это, я хочу сказать, значит, что люди все только больше о смерти думают, — как это я, мол, пятки протягивать буду, как мои косточки тлеть будут, — о жизни человек меньше думает, так только — все заботы о пупке. Да! Слышь, вот я по законам природы иду, только их чувствовать надо, на вожжах их держать, о смерти все равно и думать нечего. Вот она какая история, и нечего тут и возражать, ничего не скажешь больше.
Подползали сумерки. Я щурил глаза, и длинные, пустые, белые скамейки казались мне плоскодонками. Где-то качались под ветром цветы с чашечками, похожие на дождемеры, и как-то незаметно в паузу ворвались тягучие звуки гармошки.
— Пошла, кликуша. Не люблю я ее, — и Мичурин сердито усмехнулся.
— А раз разговор зашел о жизни — ступайте, жизнь поглядите. У нас в слободе сегодня престольный дурачье справляет, а я пойду к себе, почитаю, да ему вот обещал там разные анекдоты рассказывать.
Аркашка перевоз нас быстро на тот берег. Мы зашагали по дороге и увидели «нравы». Слобода из всех годовых дней особо выделяет три дня. В первый день напиваются поголовно все бабы, это праздник «жен мироносиц». Каждая «порядочная» и «благочестивая» женщина режет курицу, приглашает к себе гостей и пьет напропалую. Во второй день женщинам дают опохмелиться, и «курку морят» одни мужчины. Третий — мы застали в самом разгаре буйства, веселья и криков. В третий день напиваются мертвецки и бабы, и мужчины, и девушки, что на выданье, и мальцы.
Мы заглядываем в окна. Они открыты, и у каждого окна куча народа, как на свадьбе. Слобода дышит на нас винными парами.
Мужчина в развевающихся портянках скачет по столу. Он отбивает сапогами, надетыми на руки, подобие чечотки. Ему хлопают ладонями и бутылками.
Человек орет в граммофонную трубу, стараясь перекричать марш, как будто все это сплошная карусель, только карусель невидимая, нет очертаний деревянных коней, и только видны раскачивающиеся на столах и стульях лихие седоки.
В слободе — небольшие деревянные домики. Каждый домик с годами нажил себе небольшое брюшко. Оно просвечивает сквозь занавески, оно отражается в торжественных самсварах, оно висит на кончиках фикусов.
У человека топорщатся кончики усов, он не овладел своей манекенной грудью, «гаврилка» начала вращаться вокруг шеи, накрахмаленная рубашка треснула и выехала из-под ремня. Что было бы с ним, если бы в таком виде поставить его на тендер или у стрелки?
Так веселятся в слободе до поздней ночи, так не умолкают голоса, там еще долго по-пьяному растягиваются гармошки, и пальцы бьются и путаются в балалаечных струнах.
На утро женщины будут горевать о разбитой посуде, разбитые тела будут качаться на подножках, сцеплять вагоны, и чувствовать связанность во рту и глазах. Но еще далеко до утра, и один из «празднующих» старается перекричать граммофонный марш, другой бьет себя по животу и протягивает рюмочку, приготовив для закуски маринованный гриб на кончике вилки.
Довольно подглядывать нравы в чужие окна!
— Эй, Аркашка!
Река ровная, как платформа.
Я стараюсь как можно глубже погрузить руку в Лесной Воронеж. Если бы у меня руки доставали до дна!
Аркашка даже не гребет.. Лодка подвигается медленно вперед и наконец стукается о берег.
Мичурин чистит фитиль лампы.
— Ну что, наелись там видов? Вот я вам и на закуску приготовил, называется «Напутствие тимирязевцам к труду по сельскому хозяйству». Мичурин читает:
Дружно, ребята, станьте стеною,
Смело пробьем мы рутину!
Бурным потоком, вместе со мною,
Сломим преграду, сдвинем плотину
Старых суждений, ветхих устоев.
Практика в деле все победит.
Твердая база нового строя
Трудный наш путь облегчит.
И очень быстро он добавил:
 —
Ну, что, стих? Не рифмоплет я, все-таки складно, черт побери!
—
Ну, что, стих? Не рифмоплет я, все-таки складно, черт побери!
— Иван Владимирович, а вы еще обещали анекдоты рассказать.
— Обещал, а ты не врешь, а если врешь?
— А если вру—все равно расскажите.
— Ну, хватай!
— Хватай, говорю.
И Мичурин бодает меня головой. Бахарев отодвигается,
— Видишь, шишка у меня вот здесь, чувствуешь ее, мерзавку!
Я гляжу на стариковский затылок и чувствую, как под кожей будто переливается комок ртути.
— Схватил, Иван Владимирович.
— Ну, а теперь слушай, сейчас анекдот вам будет,
— А шишку отпустить можно?
— Ты что думал, я тебе ее подарю! и Мичурин откинулся в кресло.
— Ну, слушайте! Я говорю, что шишка у меня эта не спроста, это есть особенная свойственность моего организма, а все оттого, — вон, видите, малокровная..
Мичурин ищет глазами луну, но она еще где-то застряла в ветвях.
— Все в прятки играет, чорт-те-што делает. Так вот я к этой луне чертовски тянулся, а в этом-то и весь анекдот заключается. Можете, не верить, а я был в детстве, как бы это вам сказать, был лунатикам. А может, вру? А?
— И вас это занимает?—спрашивает Бахарев.
— Говорю — анекдоты, ерундоты, ну, понял!.. А знаете, что в книге
бытия сказано, в этой самой книге сказано? «И в третий день бог отделил воду от
земли и повелел земле произвести всякие растения». Да, говорю,  всякие
растения, но только не гибриды мои, слышь?
всякие
растения, но только не гибриды мои, слышь?
Мичурин замолчал, не дождавшись ответа.
Его думы ушли далеко, как ветвистые корни.
Ночь конфисковала землю.
Над нами висит планетарий.
С его купола звезды падают, не долетая, до земли, как переспелые плоды.
Мичурин зацепил взглядом луну и не отпускает ее.
Он говорит как бы про себя, чуть дрожащим голосом:
— Земля-то! Вот они наши знания человеческие. А в одном солнце миллион триста тысяч земель поместится; земля-то, она как яблочко будет. Вон, планета остынет, как лампа погаснет, а свет от нее пока до земли дойдет —еще сотни лет бежит. Вон они звезды плачут, а о них понятие имеем, имеешь понятие, ну, говори?
— Да так, знаю, звездопад, это, кажется даже название есть такое: «слезы святого Лаврентия».
— Все кажется вам, какие знатоки, — вот дурачье, и другого слова нет, не умеют люди космически мыслить, кроме безмена и аршина измерений не знают, только к тиканью карманных часов привыкнуть могут; да разве это годится, да это чорт-те-што! Первобытные люди, и то больше о звездах думали, только понять ничего не могли, дурачье, а ты знаешь, один американский профессор взвесил в одной пещере вес всей земли и земля, оказалось, весит... сколько она весит? Сейчас скажу, она весит — в числе этом, одним словом, шестнадцать цифр.
Мы глядели с нашей верандной. обсерватории на старые звезды. Как будто чувствуем вращение земли. И она кажется после мичуринских рассказов очень маленькой, такой крохотной, что даже удивляешься, как может поместиться на ней такой город, как Козлов.
И хочется, как в детстве, засунуть голову между коленями и видеть опрокинутый мир.
Так бывает, когда стеклянные призмы люстр разглагают солнечные лучи и, прищурив глаза, мы видим и окружающее в пестрой окраске, и текут в солнечных столбах пыльные миллиардные миры. Но наш разговор о звездах не такой тщательный, как спектральный анализ, мы не держим его так твердо, как ученый настоящую призму.
Мичурин вынимает из своих неведомых, как туманности, карманов сложенный пожелтевший листок.
Я лишь рычаг могучей внешней
силы,
А сам себе по существу ничтожество во всем,
Не знаю, прежде где я был, что делал, где я жил.
Куда пойду—мне тоже неизвестно.
Но что я вечно жил и буду жить всегда,—
Не сомневаюсь в этом никогда.
Могу предполагать, что с газовых начал
В протоках разных минералов,
В бактериях.
И Мичурин вдруг сразу обломал стих. — А, погоди ты! Слышите? — воскликнул вдруг Мичурин и схватился за палку. — Очень хорошо слышим вас, Иван Владимирович.
— Да не меня, слышите, ветки ломают!
Мы сошли с веранды. Да, кто-то ломал ветки. Что делаешь, болван ! —.закричал Мичурин и зашагал в кусты.
— Интылигент, попадись, изувечу! — раздалось из кустов. — Со света сживу!.
Мичурин зажег спичку, Мы двинулись вперед и вскоре наткнулись на что-то, напоминавшее человека...
Он грыз кору яблони и ругался.
Бахарев схватил его, но пьяный вырывался и старался припасть к ногам Бахарева, чтоб грызть их, как крепкую яблоню.
— Это ты ынтылигент, должно быть ты, а ты... А я тебя... А ты меня... дай плод съем... ты что, сволочь, здесь у нас делаешь... ынтылигент... у-у... — он вырвался наконец из рук журналиста, схватил руками сук и начал в иступлении качаться, отталкиваясь ногой.
— Хватай его, да к чорту, — закричал нам Мичурин. Бахарев обнял пьяного, а я схватил его за ноги. Только сейчас я заметил, что наш груз где-то основательно вымок, — даже ночью блестела его черная и мокрая сатиновая рубашка.
Мы унесли его за калитку, положили в лодку, которую Аркашка предусмотрительно выволок на берег, и ушли.
А в ушах все еще звучало:
— Ынтылигент...гент...гент.::
По дороге я узнал от местного фельетониста-публициста о том, что ежедневно в саду находят винные бутылки и банки от консервов, о том, что в конце сада, где кончается изгородь, вытоптаны большие лужайки, — они известны всем козловским кутилам, на них повсюду кучи окурков и ореховой скорлупы; деревья вокруг лужаек изрезаны рисунками сердец, именами и Шур и Марусь.
Под прикрытием опытного питомника люди припадают к горлышку, нарушают тишину и только к утру уезжают на лодках. Лодки на пристани выдаются всем круглые сутки. Должно быть, и «ынтылигент» или свалился с лодки или перешел вброд, который может найти только пьяный.
...В бактериях, в микробах,
В различных видах насекомых
И, наконец, в животном царстве.
В теченьях тьмы веков и миллионов тысячелетий
Сменял я много форм на службе жизни.
За шагом шаг, вперед, а иногда назад
Шел по пути я эволюции, и вот теперь
Мой интеллект есть сумма опытов,
Пройденных прежде,
А впереди, в безмерном горизонте,
Лежит дальнейший путь к пределу совершенства...
Теперь уже никто не мешал Мичурину, но он кончил и сразу приступил к прозаической речи:
— А много людей в нашей области к совершенству шло, и все нет предела. Вот Линней сочинение здоровое написал: «Сон цветов». Большой подлец Линней был, даже цветочные часы соорудил, с циферблатом клумба была, а цветы время показывали. Вон видите, там у реки—липа большая, так Линней — это и есть липа, потому что- эту самую фамилию Линней получили, от гигантской такой, говорят, липы, росшей у дома, где родился сам Карл. И отец его любовь к растениям имел, а сам он, как говорят, кротом был в доме, зато в поле—что рысь.
А был еще такой старик, Шпренгель, учителем был, сочинение тоже написал — «Открытие тайны природы в строении и опылении цветов». Сумел учитель доказать, как растения оплодотворяются. Над пчелами он много наблюдал. А они возьми, тогдашние ученые, и объяви его истины суеверной басней, так в нищете большой и умер человек, и могила его где — не знают.
А вот еще один американец, перед ним и шапку снять можно. В 1925 году умер в Перу, после того, как из Соединенных Штатов бежал. Этот американец ничего, собственно, особенного не сделал, но характер имел большой и «склером» этим самым, ну одним словом, пшеном заинтересовался. У них в Америке болезнь хлебных злаков свирепствует; головня называется. Он решил сорт пшеницы восстановить. С этой целью его и в Россию, к меннонитам, на юг занесло. С этих мест он и вывез русскую пшеницу в Америку. Только после смерти его на результатах его опытов люди большие капиталы нажили.
Все умирают, об этом и думать нечего, но об одной смерти думать много надо (пауза)...
Не виню я его за эту смерть, а некстати она была, пожить бы ему еще десяток годочков, к нам в питомник, думал, заглянет, — да нет... А вот Паша говорит, что о нем даже ерунду какую-то в кино навертели, а жизнь у него — это чорт-те-што была, — Камерер. Камерер-то, знает, одно дело у меня с ним. Вот бы вам книги его почитать, почище стихов будет.
...Вследствие этих фактов, хотя я
лично не участвовал в этой фальсификации моих экземпляров, являющихся
вещественным доказательством, я не могу более считать себя подходящим
человеком, чтобы принять ваше приглашение. В то же время я чувствую
невозможность перенести разрушение работы моей жизни. Я надеюсь, что найду
достаточно смелости и силы, чтобы завтра с моей неудавшейся жизнью покончить.
22 сентября
П. Камерер
Я привожу здесь заключительные строки посмертного письма австрийского ученого, биолога Пауля Камерера, к русским товарищам по желанию И. Мичурина,-хотя это и противоречит ходу суток.
Когда биолог лишил себя жизни, его труп охраняли две собаки. Они всего как несколько дней подружились с хозяином. Они не подпускали пришедших людей к холодному телу.
Камерер — вы доказывали всю свою жизнь влияние среды, ваши саламандры доказывали наследование приобретенных признаков, вы убедились «в существовании присущих самому организму факторов, изменяющих менделевские пропорции». Ведь это ваши строки:
Если убрать у огненной саламандры таз с водой, то она удерживает уже готовых родиться головастиков, ибо роды вне воды чужды ее инстинктам. В течение приблизительно четырех периодов беременности, с увеличением срока беременности, та же самая самка научается рождать готовых маленьких саламандр, дышащих легкими, которые вполне приспособлены к жизни в воздухе.
О вас вспомнили, Камерер, августовскою ночью на окраине города Козлова, в день престольного праздника неизвестной вам слободы, вспоминал неведомый вам старичок с палочкой.
Вы не слышите, как качаются и спят мичуринские гибриды, вы не слыхали, должно быть, никогда даже о «Русском Бербанке».
А им было бы хорошо, маленьким саламандрам, — дышащим легкими, приспособленным к жизни в воздухе, — в мичуринском саду. Здесь же между стволами ползали бы ваши жабы-повитухи. Они ведь не лакомки до женьшеня. Старичок бы рассказывал вам, товарищ Пауль, анекдоты, починил бы ваши карманные часы, и они ходили бы долго и верно.
А может быть, и вы бы, молодой профессор, не отличили бы груши от укропа, особенно, когда на вас заворчал бы человек с суровым взглядом. Отчего не скрестились ваши — такие разные «по условиям среды», но такие одинаковые по целям — жизни?
Когда вы остановили свое сердце и в ваших глазах, должно быть, мелькали и черные и желтые отравленные саламандры, вы не знали о том, что за какай-то изгородью зреют плоды, оправдывающие вас перед всем миром.
Они наступают, тропики, на Козлов; время течет быстрее, и в темноте шевелятся какие-то, необозначенные числом, будущие годы, требующие оптимистических преувеличений.
...Я только читатель Киплинга, но это не существенно.
...Цветут лианы. На них качаются обезьяны, и попугаи кричат; «Отвяжись, сорт-те-што... слышь». У пальм широкие руки, у сахарного тростника — длинные ноги. Орхидеи пахнут ванилью. Хинные деревья растут в тропических аптеках.
На экваторе благоухает клюква, и только теперь она стала по-настоящему развесистой и пышной.
Смещаются широты, и к Лесному Воронежу слоны идут на водопой.
Да! Увлекшись будущим, я забыл сказать вам о том, что Мичурин давно уже поднялся к себе наверх, что Бахарев уже попрощался с ним и со мной, и только я один стерегу сад.
Планетарий еще не погас. Погасшие планеты все еще текут к нам светом. И уже не слышно слободы, только человек храпит в лодке.
Так тихо, что слышно, как астматически дышит водокачка.
Вскоре в ушах возникает всплеск и отчетливые голоса.
Тогда приходится тревожить покой непокойного человека. Он не может протереть глаза и, пытаясь что-то сказать, засыпает на траве. Я оттталкиваю лодку, и скоро кусок моего весла не достает дна.
С середины реки мне виднее смотреть вдаль, и я отчетливее вижу пятна на реке. Помогает ночь, уже свертывающая свои удочки, перестающая быть ночью.
Гребу к пятнам. Они становятся резкими и принимают формы.
— Куда, куда гребешь, — растягивается в протяжность брошенный в меня крик.
Скоро моя лодка стукается о нос другой.
— Вас проведать, — привожу я запоздалый ответ. — Ну, гляди, да не мешай, — отвечают мне разом. Так нос моей лодки столкнулся с неожиданным очерковым материалом, с козловскими рыбаками, с тайной мореного дуба.
Когда-то Лесной Воронеж протекал не в безлесых берегах.
Здесь шумел лес. Должно быть, он был непроходимым.
С веками пропадал лес. Деревья легли на дно. Они затягивались песком и илом. Потонувшими мостами лежат они столетиями. Но уже больше не откладывается каждый год новый слой древесных тканей между древесиной и корой дерева. Они давно потеряли измерения возраста, превращаясь в окаменелости.
Их не уносит течение. Они сильнее течения. Сильнее человеческой памяти. О них знают только козловские старожилы, рыбаки и содержатели лодочных пристаней. Они дружно берегут тайну — тайну «мореного дуба».
В засушливые дни, когда мелеет река, поздно ночью выезжают лодки. Рыбаки не берут удочек и снастей. Они делают как будто странные и неблагоразумные вещи. Лодку наполняют водой и точно хотят отослать ее на дно.
Но нет.
Лодка подпоясывается поперек канатом, канат рассчитан на всю глубину реки, и на конце его завязывается -петля.
Рыбак направляет канат. Как будто на дне аттракционы, и петля заменяет кольца, бросаемые на ножи. Но вот «игра» окончена. Из лодки вычерпывают воду. Лодка как будто отталкивается от трамплина. Она приподнимается, выпирает на поверхность и через несколько минут всплывает что-то тяжелое и белое, как клыки мамонта. Но за холодной и плесенной белизной скрывается блестящая сердцевина — черное тело «мореного» веками дуба.
В ближайшем от нас веке англичане с городского холодильника «Унион» предлагали городу очистить русло Лесного Воронежа.
Город нашел это предложение любезным, но излишним, — пусть чистят себе Темзу, а вода у нас в речке чистая, на дне же только пьявкам копаться.
Мореные дубы остались у рыбаков. Ночью на пристанях горят костры. Они дрожат, как в лихорадка, сияя над Лесным Воронежем.
Их видит лишь (видит ли?) дежурный пожарный с городской каланчи. Он не знает, что горят тысячилетние дубы, горит дерево, черное как антрацит. Он не знает так же, как и рыбаки, что из мореного дуба рождаются под рукой мастера сложные музыкальные инструменты, что мореный дуб ценится людьми, как редкость и богатство. Даже у козловских купцов-богачей не было мебели из мореного дуба.
Пожарный засыпает (пусть) на каланче. Лают собаки.
Никто не играет на скрипке.
Город называется—Козлов.
Рыбаки радуются даровому топливу. Дубы залегают на дне. Тысячи лежат, погруженные в воду, напротив мичуринского дома, о них почти ничего не знают.
Вытаскиваю лодку на берег слободы и иду по дороге в город. По дороге думаю о дорогах.
Это Мичурин рассказывал, о том, что в германских селах существовал обычай, — каждый, задумавший жениться, не мог быть повенчанным до тех пор, покл он и его невеста не посадят по краям дороги несколько фруктовых деревьев.
Ни одного кустарника. Но зато сколько рытвин и канав, выжженных зноем пустырей, бурьяна и крапивы. Прохожу мостик через заволоченный овраг и подымаю дымок пыли, улегшийся за ночь. И хочется сделать необходимое добавление к утопическим мечтаниям. Дороги в несколько раз шире дорожек мичуринского сада. На них, как черешни на Украине, растут «виноградные вишни». Свисают вишневые грозди. На северных дорогах тоже грозди «арктического» винограда.
Мы проходим сквозь строй придорожных насаждений, шагаем по фруктовым теням, окутанные тенью.
Но сейчас я только шагаю по городской. мостовой.
Город давно причалил к ночной пристани.
На телегах, на Конной площади, похрапывают мужики. Людям жарко спать, они кладут подушки к подвальным окнам и раскидывают в беспомощных позах свои жаркие тела, с которых сезжают простыни и одеяла.
Только недавно в Козлове было торжественное открытие первого бульвара. Он поместился узкой лентой на главной, самой широкой улице. С каким восторгом любуются козловцы на еще малокровные и робкие, далеко посаженные друг от друга, деревца — первые деревца на козловских улицах!
На меня смотрит часовая витрина. Все часы показывают разное время. Время не двигает заснувшие I стрелки.
В другом окне среди малярных кистей висит клетка. Это окно — рядом с большим зданием города, с Исполкомом, где рядом стучат типографские машины, печатающие в «НАШЕЙ ПРАВДЕ» фельетон местного публициста. Его будут глотать рассерженные и обрадованные жители вместе с утренним чаем. Какого счастливо-спящего гражданина, Бахарев, вы увековечили своим лирическим пером?
Исследование витрин продолжается.
В окне качается клетка. Я прилипаю к стеклянному холодку и впитываюсь в расплывающиеся буквы:
ЗАЙДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ, В
КЛЕТКЕ ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫЙ ОРЕЛ Г. КОЗЛОВА. ПЛАТА ЗА ОБОЗРЕНИЕ».
И на вывеске нарисован огромный, величиной с таз пятачок. Клетка висит ко мне задней стенкой, и я не могу подмигнуть глазом орлу, который кормит живописного маляра пятачками.
Нет, я не издеваюсь и не иронизирую, не подбираю типажа и колкостей. Это очень легко — насмехаться над спящей провинцией.
Проболтался о пустяках, забыв о главном, но я хочу только сказать, что в эти сутки остро чувствовал козловское бытие и над всей этой затхлостью еще не разбуженного уезда, еще очень скучного пейзажа, я видел, как простерли свои ветки персики и абрикосы, винограды и ренклоды из каждого окна, сквозь герани и фикусы смотрели прямые мичуринские глаза.
 Улица
начинает пахнуть вокзалом. Как щиты, висят большие замки на животах дверей
железнодорожных складов.
Улица
начинает пахнуть вокзалом. Как щиты, висят большие замки на животах дверей
железнодорожных складов.
В буфете пассажиры глотают бутерброды и стерегут саквояжи. От нечего делать они бросаются к справочному столу и выпускают залп вопросов. «Мне нужен скорый, когда скорый, у меня маленький ребенок». Мне хочется подойти к окошку и навести справку, кто из всех этих торопящихся и взволнованных рельсами людей хоть слыхал о Мичурине.
К дебаркадеру подходит московский поезд, люди бегут к буфету. Требуют сельтерской и ессентуки, — им только одну бутылку, скоро будут Минеральные воды и станция. Ессентуки, они не могут опоздать, они спешат к виноградному сезону.
Но, кондуктор, подождите свистеть. Дайте сказать им, что и здесь, в Козлове, наливается виноград, дайте... Со всех сторон бегут рельсы.
"Монастырь"
Сторож дожидается утра. Он очень стар, сторож. Ему дали винтовку и патроны. За все годы он ни разу не стрелял. Зачем стрелять, если такая дремотная тишина всюду?
Если бы он увидел, что через стену лезут таинственные и вооруженные люди, он бросил, должно быть, винтовку, надвинул картуз и залез бы в собачью конуру.
Он не дремлет. Ходит вокруг стены походкой человека, на которого никто не смотрит, никто не мешает. Скоро раздаст лопаты, лейки и пойдет спать. Смотрит на часы — они высоко висят на колокольне; там остался только один колокол, от его языка идет веревка, оиа тянется по земле. Когда дойдет стрелка до узаконенной цифры, он схватит веревку, и оставшийся колокол загудит за все колокола. Сторож дожидается утра.
Он видит мое неожиданное появление. Если он сторож, то хотя бы для вида должен схватиться за винтовку. Но он не скрывает своего удовольствия:
— Что это я раньше здесь вашу фигуру не примечал?
 —
Да и я вас в Троицком монастыре не видел.
—
Да и я вас в Троицком монастыре не видел.
— Теперь только его репродукционным отделением называют.
— Отделение сторожите?
— Микроскопов у нас много.
— Ну, а монастырь-то помните?
— Как же не помнить, богатый монастырь. В духов день ярмарки такие бывали, товара сколько, и лент, и леденцов девки накупали, приходили сюда на каруселях кататься.
— Значит, хорошо жили?
— Да ничего-с. А вы, собственно говоря, к нам по каким .делам?
— Да так, знаете, интересуюсь.
— Здесь много таких для интереса бывает, а интересного-то ничего нету, трава одна. Вот церковь была красивая, в ней амбары и жилье сделали, вот он и весь интерес будет; вон теплицу переделали, и глядеть не на что, а вон кресты валяются, кладбище было, а теперь о покойниках не беспокоятся, все с растениями возятся.
Мы подходим к каменным плитам. «Здесь покоятся погребенные супруги Антонида и...», «мир праху твоему, деточка».
В сломанных плитах текут мраморные жилы. Легкий ветерок перебирает четки в железных венках.
Здесь в склепах покоились поколения козловских коннозаводчиков, здесь лежали представители рода купцов Дерибизовых, Воробковых, Курьяновых...
Сейчас кладбище больше не похоже на кладбище. Как будто здесь строят дом и кладут фундамент. Лежит сложенный красный кирпич. Вместо могил — впадины в земле. Нужен строительный материал, а не склепы.
А сторож мне вое поясняет:
— Монастырь-то, он дозорную службу  нес,
против татар да нагайцев и прочих кочевых племен. Монастырь крепостью был,
пушки стояли. А теперь перешел на мое попечение. Ну, а в городе, у главного
нашего монаха —Ивана Владимировича — были? Э!
Погода-то наша бежит...
нес,
против татар да нагайцев и прочих кочевых племен. Монастырь крепостью был,
пушки стояли. А теперь перешел на мое попечение. Ну, а в городе, у главного
нашего монаха —Ивана Владимировича — были? Э!
Погода-то наша бежит...
К калитке в монастырских воротах подбегает заспанный человек, в руках у него часы и книжечка.
— Товарищ метеоролог, можно с вами?
— Быштрей, быштрей, уш ошмнадцать минут ошмо-го, —кричит он мне, не оборачиваясь.
Куда поспеть мне за ним, когда уже восемнадцать минут восьмого!
Сторож нагибается за веревкой, и колокол дребезжит, как будто каждым ударом разбивает стекла.
Сторож дождался утра.
Должно быть, в городе уж несколько раз хрипел гудок.
Старик открывает ворота. Они шатаются под напором людей. Должно быть, история повторяется в веках, ломятся в ворота мочевые племена. Они врываются и бегут к граблям — вооруженная орда садовых рабочих. Такое оживление бывает только у фабричных табелей.
Появляется Горшков. Он дает наряды на работы: гряды полоть, яблони мазать.
Я же вспоминаю, что время спешить на свидание с Пищалкиным.
Подымаюсь по лестнице, вижу настоящее произведение искусства, огромную надпись, разрисованную всеми красками:
ХУДОЖНИК МИЧУРИНСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
И. ПИЩАЛКИН

Но подождем открывать дверь, плотно пригнанную к фанерной перегородке.
Художник Пищалкин был когда-то маляром Пищалкиным.
Потом Пищалкин был фотографом, имел собственное ателье и достаточное количество беседок, водопадов и башен. На их фоне он придавал своим клиентам художественные позы. Разукрашенная вывеска Пищалкина гласила:
СНИМУ КРУПНО и МЕЛКО КРУПНЫЕ и МЕЛКИЕ БЮСТЫ
В ПОЗИРОВАНИИ ДОВЕРЬТЕСЬ ХУДОЖНИКУ
СЕМЕЙСТВАМ, АРТИСТКАМ и ПОЖАРНЫМ СЛЕДУЕТ СКИДКА
Остаюсь с почтением художник-фотограф
Иван Пищалкин.
Пищалкин был когда-то избран председателем вольной пожарной дружины. Говорят, он любит, когда его называют бранд-майором.
Итак, бранд-майор, художник и фотограф с длинной бородой, меняющий свою форму в соответствии с сезоном и модой.
Кстати, в питомнике Пищалкин помимо должности художника уже несколько лет числится «временно» исполняющим обязанности лица, ответственного за пожарную охрану. Таков Пищалкин. Теперь можно открыть дверь. — Здравствуйте, товарищ художник.
— А вот табуретка, товарищ-начальник. Садитесь, прошу.
— А вы не забыли, Пищалкин, что обещали мне сегодня историю рассказать и со своим делом познакомить.
— Что же, можно, секретов не держим. Вот все тут. Все тут.
На полках не висят, а лежат плоды. Виноград и груши. Груши чередуются с какими-то неведомыми, белыми плодами, ими можно чертить, как мелом, — это гипсовые плоды, и растут они только у Пищалкина. Его яблоки очень румяны, их не прогрызет белка. Яблоки лишены сока, их не маринуют в кадках. Они на положении окаменевших сокровищ. Их жизнь должна быть долговечной, и даже червь не прокладывает себе тропинок к их сердцевине.
Есть одно из очень древних искусств и умений. Оно очень просто, но этой простоты добиться очень и очень не просто. Это умение передают по наследству. Оно окружено тайной и молчанием.
Мичурин выводит новые сорта. Но как узнать через несколько лет об окраске, о весе, о форме каких-нибудь плодов, каких-нибудь примечательных урожаев?
Здесь на помощь приходят Пищалкин и искусство моделирования фруктов. Но еще совсем недавно Пищалкин был неуч. Он гладил любопытными руками мастера твердые яблоки и хотел взглядом, как рентгеном, увидеть тайну их рождения.
«Червь сомнения», как червь в яблоко, пробрался к Пищалкину. Здесь и начинается доблестная страница пи-щалкинской биографии.
Пищалкин рассказывает:
— С чего бы это начать вам? Ну, был я, как говорят, художник-самоучка, плоды акварелью мазал, все крапинки выводил, но это мою натуру удовлетворить не может. Я, хотя, конечно, не садовод какой-нибудь оригинатор, но люблю мыслить. Тут все изобретают, а мне неудобно за одни пустяки оклад получать. Так вот я и додумался. Прихожу к Ивану Владимировичу, говорю: оригинальное предложение имею, прошу не обижаться, — так как вы есть историческое лицо, то искусство не может отнестись к вам спокойно и должно Мичурина увековечить. Вы ложитесь, Иван Владимирович, а я вам резиновые трубки — дренажи — в нос вставлю, а вы не беспокойтесь, в один момент с вашего лица маску сниму. Так сказать, гипс для музея будет. Но тут что и было! Прямо в шею прогнал меня. «Ты, говорит, очумел, художник, когда умру, тогда, говорит, чорт те-што делайте, а сейчас, мол, не позволю над моей личностью издеваться, и вовсе, мол, ты не художник, а сукин сын».
— Ну, если «сукин сын», ничего не поделаешь! Только плоды акварелью рисую, краски развожу, плакаты делаю, — а потом полез на рожон. Нет, думаю, моя возьмет. Гляжу, в смете сумма стоит: за модели. Что такие за модели? А нам их из Рязани из мастерской каждый месяц присылают. Иван Владимирович заказывает. Достал я модель. Яблоко, как яблоко. А из чего оно сварганено — понять нельзя. Тогда прошу: выпишите и на мою долю модель айвы. Хочу для этажерки, для большего уюта иметь. Получил айву, глазеть-то ее нечего, расколол я ее, да в город, к химику-аналитику. Из чего продукт сделан? Парафин, стеарин, воск?
— Поехал я в Рязань. А из Рязани нам всегда агроном один модели привозил. Сговорились мы с ним, говорит, — вместо меня к старухе пойди, скажи, что агроном прислал. Сам не едет в Козлов, так просил меня посылочку захватить. Меня впустили, а я простачка разыгрываю: «Что это хлама сколько наставили?». Сижу, а сам сквозь газету глазами ерзаю. Все формы на всю жизнь запомнить хочу. Потом подхожу к девчонке, незаметно в разговоре под’езжаю, — он, стеарин, должно быть дорогой будет, ну, и так далее, и в этом роде. Да потом словно ненароком залез пальцем в банку с краской, охал и ахал, — «костюм-то, костюм испачкал, пропади вы с плодами», — а сам все гляжу, как она работает. Старуха пришла, — видит, человек газету читает, да о пятне сокрушается, даже на меня внимания не обратила. Тут-то я все и увидел. Самое главное — это краски знать, модель должна всем помологическим качествам отвечать, по весу точь-в-точь с оригиналом быть, а главное по окраске, простая-то краска на моделин состав не ложится, блеска нет и эффекта.
На полке у Пищалкина лежат блестящие, эффектные плоды. Просвечивают прозрачный виноград, малина и крыжовник. Черный виноград покрыт серо-зеленой и голубоватой пылью. Я мну виноград рукой, наощупь он мягкий и с пушком. Все это желатиновое, а листья коленкоровые.
— Приехал я к себе в монастырь. Без всякой остановки модели сделал. Прихожу к Мичурину, говорю: «Вот вам «сукин сын» яблочки принес. А он как взял в руки, так невольно за желтое пятнышко начинающейся гнили схватился ;: я его на модели в соответствии с оригиналом здорово, скажу, изобразил.
С тех пор питомник наш и без Москвы живет и без Рязани. Теперь у меня свои подходы к модели есть, вот гипсовых форм сколько, и быстро работа идет. Больше часа за моделью не сидим! А вот я вам и свою статейку приготовил, мнением интересуюсь.
«...Владея кистью, мне пришлось наблюдать, как посетители музея и в особенности студенты, я убедился, с жадностью набрасываются на витрины с моделями плодов, чтобы воочию убедиться и сравнить их с описанием. Значение моделей неоспоримо. ...Вспоминая истинные слова, когда-то сказанные великим педагогом Ребелем: «Ребенок более всего наблюдает то, что он сам производит», нельзя не пожелать, чтобы в открываемом при питомнике имени Мичурина сельскохозяйственном техникуме, кроме создания мастерской моделирования, необходимо включить в программу последнего, усилив предмет рисования и преподавания моделирования.
...Этот полученный воистину прекрасный наглядный материал послужит развитием у учащийся молодежи и научного мышления и инстинкта. Маленькое на первый взгляд дело моделирования, может развернуться и занять почетное место в отрасли изучения сельского хозяйства.
Таким образом, дело
моделирования, до сих пор покрытое тайной, не умрет, а будет жить и развиваться.
Художник питомника имени Мичурина —
Иван Пищалкин
— Ну, что, прочли, это я тут на педагогическую точку зрения упор делаю, а сейчас мои мечты в сторону всесоюзной коллекции, — модели ото всех сортов и плодов сделать, и науке и коммерции польза!
Мы еще долго говорили с Пищалкиным. Несмотря на все разнообразие его знаний, человек этот кажется мне маниаком моделей. Он все как бы рассматривает сквозь прозрачность желатинового винограда. Он, когда-то провинциальный маляр, может быть, все очень преувеличивает. Но как же не преувеличивать, когда от вывесок он пришел к плодам, к научной скульптуре фруктов. И он прав — полная коллекция моделей и плодов, — это и огромная ценность, и лучшее наглядное пособие, и летопись плодовой жизни.
Сам Пищалкин как нельзя более подходит к климату и питомника и Мичурина.
У каждой планеты свои спутники. Пищалкин нашел себя, загорелся и стал пламенным, как пожар, энтузиастом, втянутым мичуринской работой. Так ручьи вливаются в потоки. Потоки в водяные пространства. Течение гонит сплавы.
Пищалкин нагружает меня такими аппетитными и такими недоступными, что уж действительно «зуб неймет», плодами, я выношу их бережно, как трофеи свидания, и в зубах у меня, доверенный мне Пищалкиным, ключ от музея.
Монастырские корпуса и гостиницы строили не для лаборатории.
Среди колб, змеевиков и штативов виднеется взлохмаченная голова.
Голова принадлежит Горшкову.
Я прошу Горшкова рассказать мна а своей работе. Он приглаживает волосы и сразу становится хозяйственником. Говорит спокойно, как будто раскладывает слова, или отсчитывает, как медлительный кассир, костяшки на счетах:
— Как начал работать — работать с Иван Владимировичем — сразу решил: надо Троицкий монастырь и рощу занять под питомник, для размножения мичуринских сортов. Место самое удобное: и от железной дороги близко, да и сам Иван Владимирович недалеко. Война из-за монастыря была, не хотел город рощу отдавать, — хотим, мол, устроить в ней народные гуляния и санаторий. Не только из-за монастыря воевали, за каждую лопату приходилось войну вести. Вот, например, решетка в основном питомнике. Должны мы были высадить отборные сеянцы, единственные на весь мир, им цены нету, нужно их защитить от недоброго человека, от зайцев, лошадей, от скота.
А поблизости с Донской слободой имеется помещичий сад вместе с парком, обнесенный проволочной сеткой. Куда бы лучше — снять эту сетку и огородить ею место, единственное на всем земном шаре, а помещичий сад можно и колючей проволокой защитить. Так нет! Несмотря на все постановления и декреты, три года из-за сетки бились, пока нам ее дали. Был у нас один заведующий земотделом, во все три года службы ни разу в питомнике не был, ни разу не поинтересовался, что это за место в полутора километрах от земотдела, куда с разных мест ученые и крестьяне за сотни километров едут.
Когда мы монастырь получили, то до 1923 года у Мичурина работало всего семь человек, — без всяких средств и оборудования. А в 1924 году дали нам всего пять тысяч рублей, вместо испрашиваемых семидесяти тысяч, и до сих пор, хотя улучшений много, а все-таки на грошах сидим.
С 1923 по 1928 год питомником отпущено посадочного материала до пятидесяти тысяч штук, по многим хозяйствам, в самые разнообразные места Союза. Это что? Кажется, как будто много, а на самом деле это очень мало. Вот расчет: в год, если будем отпускать пятьдесят тысяч, а в размножение входит шестьдесят сортов, то на каждый сорт выходит восемьсот штук деревьев, а если их размножать только для испытания, чтобы знать, где и как какой сорт растет, то если и отпустить материал по сорока губерниям, то на каждую с районами придется всего двадцать штук, т.-е. не на губернию, а на округ, а только для одного Козловского требуется сто тысяч штук. Если хоть немного по-соседству удовлетворим нужду, то мичуринские питомцы не выйдут за пределы Козлова. А сколько к нам обращаются опытных станций, учебных заведений, коммун?

— Конечно, сколько бы мы земли и денег ни получали, нельзя наводнить весь СССР козловскими растениями, да этого и не надо. Большинство испытанных гибридов годится в климате, сходным с козловским, хотя многие великолепно растут в Сибири и на крайнем севере. Но нужно создавать местные питомники, чтобы они шли по нашим методам, проверяли мичуринские сорта и создавали бы гибриды, выдержанные в своем климате. Вместе с тем, вначале-то надо наш питомник расширить, чтобы мы могли всех снабжать. Ведь и Средняя полоса не из одного Козлова состоит. Больше всего крестьяне нас письмами закидывают; они уж смотрят на садоводство не как на забаву. А вот, если хотите убедиться, должно быть, почта давно пришла...
Мы идем к горшиовсшму столу. Он покрыт письмами. Мелькают штемпеля и кривые, косые, прямые и курносые почерки.
Горшков как-то особенно ловко пропускает конвертный поток. Он читает все только одним быстрым движением глаз. Я подбираю и кладу в сторону то, что показалось интересным.
Я просил у вас черенков яблони новых сортов и получил ответ, что питомник отпустить не может. Это меня не удовлетворяет. Прививочный материал мне нужен не для Рязани, а для Вологды. В Вологде у меня есть небольшой питомник, и, надо сказать, единственный для Вологодской губернии. Я предлагал свой питомник передать Вологодскому городскому отделу, но тот пока отклонил это предложение, может, потому, что заведующий огородом не может отличить яблони от груши. Тем не менее я считаю, что в конце концов в Вологде будет продолжаться дело. Считал бы, что вы дожны отпустить мне новые сорта. Вологда будет севернее Козлова.
...Начитался я нынешней зимой про вас и о чудесном саде . цн днем ни ночью не имею покоя: страшно хочется хоть одним глазом взглянуть на те чудеса, которых вы добились, а еще больше хочется иметь хотя одну миллионную крупинку вашего чудесного садика. Надеюсь, что к будущей весне накоплю из своего скудного жалованья на проезд до вашего города, и все-таки добьюсь, чтобы вы позволили посмотреть ваш «рай», а пока обращаюсь к вам с наипокорнейшей просьбой—послать мне наложенным платежом хотя бы пару яблок, годных для существования у нас в Архангельской губернии...
... Я—крестьянка, состояние мое более чем скверное, но имею хату и одну четверть гектара плодородного огорода. Вся беда в том, что у нас полнейшее вырождение семян, —кавуны родятся невкусные, баклажаны у нас „Чудо рынка" — как кулачок двухлетнего ребенка. Если можно, вышлите мне хоть десяток семян, и я буду вас век благодарить, и будут у меня в нашей глухой местности ваши семена, и мне кажется, что счастливее меня никого не будет на свете.
....Пишущий сие письмо уверен в том, что товарищи вздохнули и подумали, жалко, таких Мичуриных в СССР мало. Взять Германию, — будучи в плену, я наблюдал: каждый бедный фермер и богатый бауер имеет сад, и вот мы, рабочие, сорганизовали жилстроительный кооператив («Красный трамваец»), построили рабочий поселок и хотим без всяких слов развести сад, с чем к вам и обращаемся.
Премного извиняюсь, что письмом обременяю, но как я еще молодой садовод, нуждаюсь в поддержке в данной области, прошу сообщить мне, можно ли в Татреспублике, в частности в Мензелинском уезде, разводить сорт груш «Бере-Зимняя Мичурина»? Вот уже два года, как я имею небольшой клочок земли под садом. Развести сад мне хочется шибко, но за неимением руководства мой клочок в запустении, и я не могу спокойно относиться к бесполезно лежащей перед моим взором земле. Прошу прислать мне наложенным платежом знание в виде руководства и совета и исполнить мои дальнейшие просьбы для всеобщего процветания.
...Артель считает своим долгом сообщить, что все экземпляры полученных деревьев отлично сохранились, весной хорошо принялись и цвели. Белая ананасная малина развивается поразительно быстро, и уже в лето из двух полученных экземпляров получилось сто пятьдесят плодов, крупных, кремового цвета и со вкусом, особо приятным. Вашими растениями заинтересовались крестьяне, они ходят к нам и щупают все руками, в особенности виноград и табак. Пишите нам ответ: Станция Ворочаевка, Уссурийской ж. д., Хабаровского округа.
Скажите, крестьяне, какая страна
богата, много золота и металла в ней? Например, река Волга
тянется на три с половиной тысячи километров, а на берегах Волги стоят фортовые
города и много там самородной ценности; возьмите реку Лесной Воронеж, — протекает
она по Козловскому уезду, и ее нам из окошка видать, и живут крестьяне и не
знают, что на берегу реки живет Мичурин и богатства свои раздает. Не
забывайте вы Мичурина! Он есть победитель природы, создал из
нее рай и учит нас разводить цветы и плоды, которых мы сроду не видали, И
посему мы говорим, что Мичурину надо сделать омоложение для дальнейшей жизни,
так как по его учению хлеба можно много брать из природы, и будут люди
плодиться и для жизни хватит.
Алексей Васильевич Стоянкин
Василий Константинович Перепечкин
— Да-с, — вздыхает Горшков,— «сделать омоложение для дальнейшей жизни», — и пишет наискосок на исписанных листках красным карандашом:
...Горшков шагает так же медленно и ровно, как говорит. С ним хорошо ходить по монастырской роще. Старик-садовник Горбунов обучает садовниц прививать глазками черенки, дает урок окулировки, показывает, как перевязывать рогожей привитые на ветки сеянцы.
— Вот ты хоть; и в юбке, а молодец, вязать надо туже, и глазок тонко режь, чтобы древесина тонким слоечком в разрез на коре входила. Ну, иди, иди, да смотри, вяжи туже, — оно, дерево, понимает, а не поймет я тебе единицу поставлю.
В книжечке у Горбунова, как в классной тетради, нули и единицы: нули значит, здорово, единица значит, никуда не годится.
Мы проходим Яблоновый сад. Белая известь второй корой затянула деревья. Они—как березы.
...На лугу — лагерные занятия. Полигон. Его зеленые пространства виднеются между стволами. Пулеметная лента выбрасывает скороговоркой пули. Вдали белеют большие круги мишеней.
Поля убегают на юг, на север, здесь же, на опушке рощи — ласковый зной, — зной в тени всегда ласков.
Красноармеец, зеленый и потный, подносит к губам блестящую трубу, как будто всасывает ее блеск, и труба гремит сбор — перерыв лагерных занятий.
На грядах работают люди, сгибающиеся как обручи.
Человек выпрямляется, как будто хочет согнуться в другую сторону—животом к небу, потягивается и льет себе в рот воду из ведра. К нему тянутся люди с грядок, ведро ходит из рук в руки. Полют и пьют, пьют и полют.
— Горшков, а ведь все-таки у вас на грядах народу не мало, работа не стоит.
— Какой там!
И Горшков рассказывает...
С 1927 года питомник просит прибавить ему земли. Мотивы: «нам нужно расширить площадь для научно-производственных работ».
— Ах так, ну тогда, конечно, мы вам предоставим, только подождите немного, минуточку терпенья — и город начал искать своих мотивов.
1. Жителям нужно дышать воздухом — за городом много воздуха. Жителям нужна для прогулок роща, и вообще город должен иметь луг.
2. Питомнику нельзя дать землю, потому что тогда в городе сорвутся первомайская и октябрьская демонстрации.
3. Землю нельзя дать, потому что городу необходимо именно на это место свозить нечистоты.
4. Землю нельзя дать, потому что у города Козлова блестящее будущее, и земля необходима для застройки будущего Козлова.
5, 6, 7 и все другие бесчисленные мотивы столь же основательны и внушительны.
Авторитет. Постановление и... кончено.
Только не думайте, что одно постановление и все, — так быстро, — не думайте, а знайте: три года вопрос о передаче необходимых земель был вопросом в текущих делах на всех повестках дня, и разрешался «авторитетами».
Мичуринский репродукционный питомник окружен землей огородников и кулаков. Так вот отчего так много спин, похожих на обручи, на огородных грядах, так вот почему Горшков махнул рукой:
— Какой там!
Ка—апуста моя,
Мелкорублена,
Не целуй ты меня,
Да я напудрена.
— поют девки на огородах.
Капуста моя
Из кадушечки,
Целовал меня
На подушечке.
Огородница выставляет локоть.
— Эй, молодой, чего смотришь, петрушечки захотелось !
— Ты ведро ему дай, пусть попьет...
— Товарищ Горшков, что завидуете, межу изучаете, — глаза выскочат!
Ка—апустка моя...!
— Это еще что такое? Этому и слов нет, это так здесь за природой ухаживают, прямо чорт-те-што!..
Перед нами стоял Мичурин.

Нет, «стоял» — это будет слишком неточно. Он как бы маршировал на одном месте. Маршировал он весьма вольно. Палкой он мешал засохшее тесто земли. По морщинам тек пот.
— Это чорт-те-што будет, сейчас назад уеду.
— Жалко, Иван Владимирович, а то вас здесь народ целое утро ждет, с разных мест приехали, уведомляли мы их, — говорил Горшков.
— А вот потому и безобразия нельзя делать, показывать-то будем срамоту одну.
— Так ведь и...
— Так ведь, так ведь, так это мы все умеем. А ты пойди сюда, пойди, вот тебе, что поглядеть надо!
У Мичурина сильная рука, он тянет меня за собой.
— Гляди, гляди, в книжку свою запиши, чтобы все знали, вот, видишь, виноград на самой дороге растет, слышь, гляди, вот колесо что с лозой сделало. Ну, что виноград да на дороге, вот звери, еще б на рельсы его посадить, паровозу живот щекотать не придумали?
— Иван Владимирович, все от того, что тесно, действительно недоразумение вышло. Пойдемте, Иван Владимирович, обрадуются они вам.
— Виноград, да на дороге, вот затейники, прямо под ложечку да вилкой!
Я пропускаю здесь подробности для того, чтобы скорее дойти до приезжих. Сам Иван Владимирович, набитый пословицами, как словарь Даля, говорит на ходу:
— Тише, тише едешь —.дальше будешь, будешь от цели... будешь, слышь, пословица-то она какая лживая.
В письмах люди спрашивают, могут ли они приехать в Козлов, чтобы лично поговорить с садоводом. Таких набирается очень много, их принимают оптом: «Можете приезжать, но только к такому-то числу».
Вот один из них первый увидел наше шествие. Он пришел в Козлов пешком из Шацка, по поручению шацкого кружка юных натуралистов. Шел несколько дней, вечерами стучался в окна, его впускали ночевать. Натурали ст в рваной косоворотке и со спрятанной за пазуху тетрадкой будет просить позволения остаться в питомнике до начала школьных занятий, чтобы он смог изучить и понять все на месте.

Мичурина обступают со всех сторон. Я превращаюсь в стенографистку.
— А мы, Иван Владимирович, живем в Гусь-Хрустальном, в поселке. Мысль у нас зародилась об устройстве садов. Скупали всякие деревца, какие только на базаре были. Из деревень кусты стали возить. Вот из-за этого я, между прочим, к вам приехал.
— Иван Владимирович, как вы есть мировой профессор садоводства, а у меня такое зло в грудях кипит. Одним словом, я, как рабочий, только что начавший жить настоящей жизнью, обращаюсь к вам со следующими записанными здесь сомнениями. Это значит так: интересуюсь, как лучше развить участок, чтобы красивый вид был, и .вообще, как ходить за садом, хочу знать. А было бы хорошо, прислали бы вы нам поверенного для этих самых дел.
— А хмель и сирень растет у вас?
— А на какой высоте, Иван Владимирович, корневой шейки вы советуете производить окулировку глазками?
Мичурин отвечает. Но стенографу важны и нужны другие слова.
Говорит всегда один. Остальные согласно и вдумчиво молчат. Боятся, как бы не растерять приготовленных
слов.
— Да, Иван Владимирович, хочу я вам сказать, что я холост. Когда мне было восемь лет, умер отец наш. Работал он в городском саду по обрезке деревьев. Упал на землю и переломил позвоночник, а потом осталась мать наша вдовий с шестью малолетними детьми, а тут еще наша земляная изба завалилась. И начал я на огородах работать. А затем германская война, гражданская, и все это осталось позади, и что ж вы думаете?
Даю вам честное мое слово, не успел я оглянуться, а мне уж двадцать четвертый год, и: все это для меня как сон прошло. Пробудился я ото сна и ужаснулся сам себе. Молодая жизнь проходит, а я еще не жил на свете, и явилось у меня желание заняться по садоводству. Вода-то есть у нас, да соленая, для поливки не годная.
— А у нас, товарищ Мичурин, в Калуге, старичок такой, по фамилии Иконников, проживает, и много у него ваших яблонек имеется, и даже кипарис в его саду растет. Он садоводству ребят да мужиков бесплатно учит, — так сказать, общественный работник. Но беда одна, нет для него ни средств, ни сочувствия. Все грозятся: если невыгодно, не занимались бы опытами, сажали бы картошку, да мерками бы ее ссыпали. А старичок-то такой сухонький, только, как начнет говорить, как будто вырастает. Об нем у нас в газете писали, что надо ему сочувствие дать и условиями окружить. Там узнали в той статейке о вас, вот и интересуемся.
— Интересуемся, Иван Владимирович, даже сказать больше, с приближением весны начинаем прямо безуметъ, хочется иметь сорта плодов козловского подданства вашего, но просто теряемся и отказа боимся...
— Боитесь — повторяет Мичурин, потом обводит всех взглядом медленно и внимательно.
— А ну-ка, пойдемте в мой музей, там удобней разговор вести, там на примерах покажу, чтоб не боялись, да! А ключик-то у кого, а Пищалкин-то?
— Ключик у меня, Иван Владимирович.
— У тебя, да ты жулик!
Пищалкин нарисовал надпись:
Музей достижений И. В. МИЧУРИНА.
Ключик ворочается в замочной скважине. Музей открыт.

Как будто здесь, как вино, выдерживается прохлада.
Мичурин, словно учитель географии, водит бамбуковой палкой по стенам. Со всех сторон на него смотрят сфотографированные и нарисованные мичуринские глаза. Как будто он преломляется в невидимых зеркалах, не может справиться со воем тем, что растянулось в витринах и прикреплено кнопками.
И тогда слово «музей» становится смешным.
— Вот чего нагородили!
Что было бы с «мировым профессором» садоводства, если бы его переселили из деревянного дома у «Лесного Воронежа» в эту огромную, как театральный партер, залу? Если бы беспорядок его комнаты: все часовые стрелки и трости с набалдашниками вдруг оказались бы под стеклом, и на самом видном месте лежала бы маска, которую ухитрился бы снять с его лица Иван Пшцалкин! А над мичуринской кроватью художник бы написал: «Здесь спит оригинатор И. В. Мичурин. Трогать руками строго воспрещается».
Мичурин тормошит свой музей, но скоро ему надоедает это занятие, он опускается на табуретку и о чем-то говорит своим спутникам.
А может быть, это только фонограф, точно записавший звуки его голоса?
Я же перелистываю толстую переплетенную тетрадь:
Иван Владимирович гордость СССР. — Бухгалтер.
От лица всего крестьянства нашего Союза низний поклон тебе старик-творец, издатель. — Крестьянин поселка „Красная горка". Член ЦИК'а СССР.
Питомник и музей И. В. Мичурина тот не должен посетить, кто ничего на хочет видеть и ничего не хочет слушать. — Группа мичуринцев при Биостанции юнатов имени К.А. Тимирязева.
Мее время еще придет — слова химика Менделеева.
Фрукты — что-нибудь особенное.
„Все виденное и слышанное я понесу далекому учительству Невельского района. — Преподаватель педтехнинума".
„Долгие годы ему! — Командир РККА".
Но, видно, еще долго не только на почтах будут храниться под замком жалобные книги.
Это я понял после того, как переписал содержание весьма незаметных музейных экспонатов. Я держал в руках не мои обыкновенные записки, а самую настоящую и даже не юмористическую жалобную книгу. Перелистаем ее, читатель.
ТЕЛЕГРАММА:
ТАМБОВСКИЙ ГУБИСПОЛКОМ. КОПИЯ МИЧУРИНУ .
КОЗЛОВСКИЙ УЕЗД. МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ОПЫТЫ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ КУЛЬТУР РАСТЕНИЙ ИМЕЮТ ГРОМАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ. СРОЧНО ПРИШЛИТЕ ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА Т. ЛЕНИНУ. ИСПОЛНЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ ПОДТВЕРДИТЕ . 18/1-22.
УПРАВДЕЛАМИ СОВНАРКОМА ГОРБУНОВ. 170
Резолюция.
— Тов. Яковенко (нарком земледелия). Я думаю, это дело надо провести в самом срочном порядке. Мичурин долго не проживет, надо торопиться. Я не сомневаюсь, президиум ВЦИК'а пойдет навстречу.
М.И. Калинин 26 января
Фельетоны.
Гибнет вишневый сад, но не
вишневый сад русского дворянства, а единственный вишневый сад в Республике. Это
недопустимое недоразумение. Приказ Владимира Ильича, резолюции Председателя
ВЦИК'а требуют внимания к каждому часу работы Мичурина. К
каждому часу. Известия,
В. Брагин
В Совнарком РСФСР.
Придавая огромное практическое значение работам И. В. Мичурина в области плодоводства, садоводства и огородничества и считая необходимым практическое использование достигнутых им результатов, Совнарком РСФСР постановил признать его опытный питомник учреждением, имеющим государственное значение, и присвоить ему название «Опытный питомник имени И. В. Мичурина».
...Кроме того, Наркомзему
поручается организовать при питомнике лабораторию и обставить ее приборами,
необходимыми для работ И. В. Мичурина и научного обслуживания питомника, а
также срочно издать важнейшие его труды.
К русским садоводам.
Со стороны некоторых учреждений и
организаций заметна неверная оценка начатого мною дела. Мое дело приравнивают к
простому садоводству и только с этой точки зрения относятся к нему. Недооценка
самого важного в моем деле именно — метода начатого мною дела — ведет иногда к
тому, что самому важному в моем деле наносится непоправимый ущерб. Например,
урезываются наполовину ежегодно сметы для развития дела, отнимаются только что
приученные к делу люди.
И.В. Мичурин
Товарищ Брагин, в 1923 году вы
писали в «Известиях»; «Внимание каждому часу работы Мичурина. К каждому часу
»-. И вот прошло очень много часов.
Июль—август 1929 года., свежий номер «Нашей правды».
Статья А. Бахарева.
Александр Серафимович был глубоко возмущен, когда узнал что издательство в течение трех лет тянуло с изданием, раздробило на десять частей присылку корректур, чем парализовало желание И. В. Мичурина продолжать подготовку к печати последующих томов.
Мичурин стар. Задержка издания
его трудов равносильна грабежу его драгоценного для всей страны времени.
Назвать это безумием — мало, это вопиющее преступление. («Автор Железного
потока у Мичурина», 11 июля
 Да
теперь мы знаем о том, как внимательно относились к «каждому часу работы
Мичурина», — «как торопились».
Да
теперь мы знаем о том, как внимательно относились к «каждому часу работы
Мичурина», — «как торопились».
Не ему надо торопиться. Он сидит на табуретке, как на грядке, и его слушают люди, встретившиеся в музее на несколько часов, чтобы потом снова не встречаться всю жизнь.
Мичурин устал, он говорит медленно.
И мне хочется подойти, к нему и задать; как самому здесь старенькому и опытному, несколько вопросов.
Так спрашивают дети отца или деда: «А почему, а почему?»
— «Единственный вишневый сад в республике» — спасен. Но много ли это? А почему, Иван Владимирович, в нашей стране еще так долго текут часы, а почему, Иван Владимирович, с таким трудом прорастают плоды трудов?
Товарищ! А почему так серьезно требовательны ко мне — и, уверен, ко всем эти цитаты в этом музее?
Время течет быстро. Жизнь вырывается наружу в Пашиной теплице, укорененные листья пускают почки и цветут первым цветеньем. Они находят силу образовать почки.
Нужно забыть прежнее и перестать каждому жить только для себя, что, к сожалению, глубоко вкоренилось в нас. Мы вое должны работать для всех, и при улучшении жизни всех каждому из нас будут доступны лучшие условия.
В течение своей жизни я твердо держался такого взгляда и, по возможности, боролся с препятствиями. Все, с чем сталкивался, я старался улучшить: работал по разным отраслям механики, электричества, улучшая инструменты, изучая пчеловодство... Но самой любимой моей работой была работа по улучшению культурных сортов плодовых растений. Пройдя через ряд ошибок и различных неудач в течение 56 лет моего личного практического труда, и, наконец добился при посредстве гибридизации нежных иностранных лучших сортов плодовых растений с нашими выносливыми местными старыми сортами выращивания целого ряда более продуктивных новых сортов, плодовых растений.
По почину В. И. Ленина правительство дало мне возможность значительно расширить дело. Но одно козловское учреждение безусловно не может удовлетворить спроса со стороны всех обширных республик Союза.
Кроме того, в виду разнообразия климатических условий в различных местностях СССР наша станция естественно не может выработать сорта, которые удовлетворяли бы каждую из отдельных областей.
Дело сортового плодоводства имеет в нашей стране огромное будущее: во-первых, плоды будут составлять необходимую часть питания всех трудящихся, а не только служить лакомством, во-вторых, для борьбы с засухой предполагалось создавать лесные полосы в степях, а теперь возникла мысль заменить эти лесные полосы полосами фруктовых деревьев.
В ближайшем будущем поля черноземной области должны принять совсем другой вид: вместо пестрых, мелких крестьянских полосок будут в колхозах сплошные богатые нивы, окаймленные полосами садов. Так создадутся поля-сады.
Нужна только самая срочная и энергичная работа по размножению хороших сортов плодовых деревьев, приспособленных к местным условиям. И я нахожу заявить о необходимости нужным учредить в каждой области станции, аналогичные по своей деятельности с козловской опытно-помологической станцией.
Что же касается опытных заведующих такими станциями, то кадры таких лиц несомненно появятся.
Прошу XVI съезд партии уделить внимание излагаемому мною делу».
С этим призывом-просьбой обратился Мичурин к съезду партии.




Меня пропускают ворота в года. Вижу, как глазенки одного человека стали упрямыми глазами в лохматых бровях. Вижу, как из пыльного быта ушедшей эпохи растет человек, достойный будущих эпох. Он, — козловский старожил, старожил города Бородатого Козла, тянется в будущее, видит «безмерный горизонт» сквозь все Донские и другие слободы, застилающие горизонт.
Грустно ли?
Надо сдунуть пыль. О пыли забудут. Нет пыли. Нет этой прохладцы и дел на-авось. Провинция должна и будет жить не провинциально.
Они протягивают друг другу руки — единственный бульвар из нескольких деревьев города Козлова и единственный в мире сад мичуринских гибридов. За ними тянутся и другие руки. Нет, это не отвлеченно. Вот рука молодого садовода, пришедшего в Козлов пешком из Шацка, вот делегат горного дагестанского аула, вот...
Сотни, тысячи рук берут яблоки, плоды, — сажают, пересаживают, скрещивают. Тысячи настоящих и будущих тимирязевцев, малыши, колхозники крестьяне, селяне, — все это — и пространства, и грядки, и огороды — требуют срочного «примичуриванья». И прежде всего, надо примичурить город Козлов, ближайшие километры, надо вытеснить неразбуженность и сонливость, ударами кулака, требованиями, настойчивостью и даже дерзостью. Дерзостью обладания и преображения природы, земли, плодов. Разве это не дерзость — гнать виноград в тундру? Гнать! Гнать! Гнать! На грядки, в огороды, в питомники, в машины консервных фабрик.
...Вечером у монастырской церкви были открыты ворота. Качались плакаты.
Волновался «устроитель вечера смычки красноармейцев и работников питомника, И. Пищалкин».
Красноармеец с эстрады читал драматический отрывок. Акустика съедала его голос. Были слышны только резкие А и О.
Тогда Пищалкин поднял руки.
Дирижер взмахнул палочкой.
Красноармейцы двинулись в поход за садовницами. Все закружились. Пищалкин обнял за талию Горшкова. Они танцовали, как будто таскали бочки. В углу, за толпой глазеющих, широко улыбался Яковлев.По церковному куполу рассыпаны звезды, и вот как будто и они понеслись, послушные духовому оркестру.
Но больше всего бесновались мотыльки-вредители, они облепили волнующейся массой огромные сияющие лампы.
Пищалкин хлопает в ладоши.
Быстрей и быстрей, нарисованные звезды и красноармейцы, быстрей, товарищи танцующие агрономы !
Последняя глава
• «Сейчас Иван Владимирович в часы досуга работает над усовершенствованием хронометра, который будет играть огромную роль в вычислениях точного времени в работах астрономов в обсерваториях.
• С весны у нас организуется мощный овощной и животноводческий комбинат. В пятилетку нужно затратить на него десять миллионов рублей. Сегодня прочитал в «Воронежской Коммуне», что в счет этой суммы уже отпустили два с половиной миллиона рублей. Агрокомбинат будет называться именем И. В. Мичурина.
• С осени при нашей станции Техникум (открыт после нашего отъезда) реорганизуется в ВУЗ имени И. В. Мичурина.
Вот и все наши козловские новости. Теперь-то вам надо обязательно приехать, чтоб поглядеть, как это все будет».
(Из Козловского письма.)
БУДУ ОБЯЗАТЕЛЬНО.