
Прежде всего я -- непоседа. И особенно в эти последние дни. Тянет бродить.
Заколотили проход. Нужно обойти. Можно пролезть. Ведь я очень спешу. Тротуар разделили да квадраты, покрыли асфальт меловой решеткой. Девчушка жмурит глаза. Заносит ногу с камешком. Прыгает. Открывает глаза. Стоит на одной ноге.
Их обходят прохожие. И я должен пройти мимо. Но я останавливаюсь у черты. Закрываю глаза. И прыгаю, как-то по своему. Нога наступает черту -- девчонка смеется и кричит звонко, чтобы все слышали.
— Дяденька выбыл, выбыл!
Я иду дальше и слышу сзади: — Вот какой большой карапуз.
Это про меня. Но не стоит сердиться. Ведь я действительно толст и приземист. Я иду так, будто у меня есть дело. Ощущаю проходящих локтем. Меня перегоняют. Я догоняю.
Много галош. Хотя асфальт сух и сер, сер, как никогда. Забахмуренное небо такого же цвета, как и асфальт.
Один из прохожих увидал проходящий трамвай. Побежал за ним, ухватился за ручку и никак не мог вовремя занести ногу.
...Огромное стекло, как застывшее озеро. Через стекло я вижу очертания трехэтажного дома. Но это не дом, а машина. Должно быть, исполинский пресс занимает весь пролет цеха. Один нажим этого пресса... я не знаю, какая деталь будет готова, если нажать пресс, но будет деталь очень нужная. Стена скрывает от меня людей, работающих у машины. Рычаг выжимает стойку, рушится вниз и опять выпрямляется. Идут люди. Они не заменяют озера. У этих озер их дома. Крыши кажутся картузами.
Я люблю заглядывать в окна. Ведь не всё скрывают занавески и не всюду занавески.
Сутулый человек входит в дом. Ему навстречу выкатывают коляску. Он смотрит на ребёнка. Ребёнок хватает его за палец. Он вытаскивает завёрнутое тельце. Он не умеет держать ребёнка.
Мимо проходит девушка. Ей смешно. Она видит его неловкость. Я чувствую, как ей смешно. Она должно быть заметила, что я смотрю на неё. Мы поравнялись. Если я посмотрю ей прямо в глаза, отвернется или покраснеет или, может быть, первая заговорит.
Смотрю ей в глаза. Не отвернулась, не покраснела, не заговорила. Просто идёт дальше. Но ведь она могла бы быть моей любимой, стать матерью моего ребенка. Выкатила бы колясочку, я подошел бы...
Я хотел бы останавливать прохожих. Протягивать руку. Спрашивать и очень хорошо расставлять слова — как жизнь?
Входить в каждый из этих домов, смотреть — какие книги читают, чьи портреты на стенах. Мне кажется, что живут здесь мои старые, очень давние знакомые.
Надо держать голову прямо, не смотреть вниз и не разглядывать ноги. Людей я осматриваю с ног. Ноги для меня как вывеска.
У меня часто сваливается носок, медленно выскальзывает из-под зацепа подвязки. Тогда кажется, к ногам словно присоединилась мышь. Ищу парадное. Подтягиваю носок.
Вот идет строй. Командир — на тротуаре. Он отсчитывает раз-два-три, точно, как по секундомеру. Они идут, будто опускают ноги у заранее расчерченных черт. Движения пригнаны. Ноги опускаются все разом. Держат головы прямо и не смотрят на ноги. Каждый ряд идет, прижатый к другому ряду; кажется, одна волна захлестнет другую. Но они сразу заполняют освободившееся пространство и идут так, как будто никого нет ни спереди, ни сзади.
Я бы не смог. Не могу так. Да. И, кроме того, надо подтянуть подвязку. Нагибаюсь, а они уж перевернулись все одновременно и идут в другую сторону, и нет ни одной сутулой спины. Они пройдут седьмого ноября по Красной площади. Командиры будут довольны. Заблестят атташе. И вот я иду вместе с ними. Атташе, одетые в форму своих стран, смотрят. У меня же спадает носок. Черт возьми, какой же носок и где я буду седьмого ноября?
Не знаю названия улицы, по которой иду сейчас. Не знаю, где буду через несколько дней. Может быть, залезу на манту. Но на мачту мне не взобраться... Я и мачта. Может быть, буду на коне. Может быть, в Якутии, а может быть и в Кольчугине.
Надо научиться завёртывать ногу в портянку. Я -- призывник. Это обо мне говорят плакаты. Я родился в 1909 году. В поезде. Проехал первое свое путешествие без билета и плацкарты. И вот в эти дни вспомнили о нас, карапузах 1909 года. Мы прожили по двадцать два года. Многим из нас скоро двадцать три.
В 1914-м году мне было пять лет. Помню Берлин.
Поезд остановился у груд багажа. Казалось, весь город завален чемоданами, рюкзаками, саквояжами, кофрами.
Люди теснились к окнам. Кричали люди и ревели гудки. Я вздрагивал от гудков и цеплялся за юбку матери, хотел разреветься, но неслась толпа, я озирался по сторонам и не успевал заплакать. Немцы кричали. Я помню рты. Точно у каждого из них во рту гудок.
Мать держала чемодан и меня. Хотела крикнуть, позвать. В толпе громоздящихся друг на друга, как чемоданы, людей не было носильщиков. Мать видит вагоны с дощечками "В Сибирь", "В Париж*. Метала взгляд. Хлынула толпа. Я выпустил руку, и меня понесло. Пытался повернуться, вцепился в человека, рассекавшего толпу, но и ему пришлось возвратиться.
Я двигался среди тысяч ног. Мать кричала. Все зовут меня. Воло... но какой из криков мамин -- я не мог разобрать. Самый высокий взял меня на руки. Я стоял над толпой, над шляпами и котелками. Сквозь пелену слез, налипшую на глаза, увидал мать. Она проталкивалась. В руках ее не было чемодана. Она бросила чемодан на перрон. Потом помню, как на вокзале плакали женщины. Кого-то тошнило. Подносили воду. Две толстые немки хотели отнять воду.
Перед нами развернулась площадь, залитая огнями и толпой, только уж без чемоданов. Я не знал тогда, что в этот день венценосец Вильгельм с балкона своего замка обратился с речью к народу.
Пасти людей горели, как фары. Они кричат о нас, несутся за нами, стаскивают с извозчиков.
А потом нас подняли в лифте. В пролете лестницы лифт остановился. Человек в лифте повторил несколько раз слово «русские» и что-то добавил. Лифт пошел вниз.
Мы спали на окраине города. Я кидался во сне, обнимая мать. Утром опять были на вокзале. Меня передали матери в окно. В купе стояли. Трудно было дышать. Один за другим входили военные. Они точно снимали мерку глазами, спрашивали бумаги, документы.
Мать держала меня на руках.
Напротив нас сидела очень высокая. В купе вошел немец и потребовал, чтобы женщина встала. Если бы она поднялась на носки, то уперлась бы в потолок. Немец был строгий.
После того, как он вышел, все смеялись, будто всем было весело и удобно. Немец спросил её, очень высокую — не русский ли она солдат?
В вагоне вместе с нами ехали люди, их не толкали, не тормошили. Они были скучны и молчаливы. Мне объяснили - они скучны потому, что их убьют или они сами убьют других, или они убьют и их убьют. Это --живые солдатики. А в солдатики я играл совсем недавно. Я казнил их, особенно неприветливых, с которых сошла лакировка, сворачивал оловянные головы. Любимых же брал с собой в постель, и они под подушкой охраняли мой сон. На одной из станций долго стоял поезд. Нас вывели. Казалось, толпа с недавнего вокзала приехала сюда угрожать, топать и рычать. Орали песни и трясли кулаками.
Мы шли по мостовой. Нас подгоняли прикладами, женщины путались в юбках, падали и шли дальше. Их подгоняли быстрее, и они падали под хохот и визг толпы.
Привели в дом, где много окошек. Не раздеваясь, все мы, а нас было несколько сот, повалились на солому.
Мать заснула. Я слушал, как подымаются и опускаются шумы в ее груди.
А песни не умолкали. В этот день в Германии в последний раз продавали пиво. За окнами нарастали крики, они то приближались, то затихали. Немцы провожали немцев на войну.
Я хотел заснуть, но не мог. Все еще слышал — гудят гудки, совсем близко громыхают сапоги. Рядом со мной на соломе спала девчонка. Меня поразили ее ноги в лубках. Ночью мне захотелось на двор. Долго мучился. Боялся сделать под себя. Не мог сам пойти по раскинутым телам. Стискивал губы и считал про себя до ста. Я не сосчитал до шестого десятка и разбудил мать. Она вынесла меня и остановилась у часового. Говорила с ним. Был отдан приказ стрелять во всех, кто выйдет за дверь. Мама просила не стрелять потому что мальчику ведь надо. Часовой долго размышлял, пока решился нас выпустить. Воздух был вкусен. Я почувствовал облегчение и восторг.
Когда засыпал, видел — плывут чемоданы, перрон, высокая женщина, девчонка в лубках, плывут и булькают рты.
В четыре часа утра нас разбудил окрик. Я не успел отплыть в ширину сна, окрик был требовательным. Пожарные внесли ведра с кофе. Так начался военно-пленный курорт.
Иногда больных, медленно поднимавшихся утром, обливали из пожарной кишки. Пожарным редко приходилось спасать прочные здания города Ростока. Пожарные охраняли русских пленных. Часто из супа вылавливали червяков. Ежедневно нас выстраивали — угрожали словами, взглядами, и как мне казалось, даже усами. От пожарников нас перевели в помещение загородного ресторана. У буфетной стойки на пивной бочке стоял бюст Вильгельма. Мы видели, как веселились немцы. Пленным отделили часть сада веревкой.

Из города приезжали немцы, заказывали столики, каждый старался присесть ближе к веревке, и все разглядывали нас, пили пиво и разглядывали.
Мы умывались, они смотрели. Мы говорили — они прислушивались. Меня душил, набрасывался коклюш. Я ложился на землю и в стороне от других детей хотел придавить, прижать кашель. Он душил меня, а я его. Я синел от кашля. Это должно быть и нравилось посетителям ресторана. У ворот собирались те, кто не мог купить билет для входа. Они наслаждались, но только без пива. Располагались с семействами на траве, облипали сквозной забор; тыкали на нас пальцами.
Забор занавесили толем. Для того, чтобы смотреть, как кашляет маленький русский шпион, как ходят и выглядят женщины из неприятельской страны, нужно взять билет, нужно заплатить.
В ресторан приходили ландштурмисты-запасники. Окружали стойку, хлопали друг друга и кричали "Хох".
Один из них, самый угрюмый, схватил меня и перетащил за веревку. Мне налили бокал. Ландштурмисты кричали "хох". Даже угрюмый повеселел. Он заставил выпить меня то, что было в бокале. Выступили слезы, и я закашлял. Не было сил вырваться из его рук. Все они чокались с бокалом, который держал в моей руке угрюмый.
Чокались, а меня рвал кашель, будто я выпил сухой песок.
Так пил я за победу немцев. Манную же кашу я поглощал за победу русских. У перегородки из цветных стекол сидели караульные. У меня была игрушка - труба. Я вертел трубу, и на дне ее дробились и расталкивали друг-друга, ныряли к снова появлялись разноцветные осколки. Эту игрушку подарил мне Пупсик. Он ухаживал за русскими дамами и всем о6ъяснял, что до того, как одел мундир, служил в конторе морского агентства.
Пупсик подарил мне трубу с разноцветным переливающимся дном. Пупсик позволял мне сидеть рядом с ним у перегородки.
Я носами смотрел в трубу, когда же уставал, прислонялся и видел плен наш то синим, то красным, то фиолетовым.
Одну же нюнь в плену помню, как одно большое сплошное стекло, крепко вставленное в раму.
Я спал на нарах в мужском бараке рядом со старостой плена. У него была борода, и он любил держать меня на руках.
Ночью я часто просыпался от затяжного кашля. Не хватало воздуха, и я сбрасывал с себя одеяло. Я спал на нижних нарах. Верхние нары доставал приподнявшись. И в одну из ночей, когда кашель перестал толкать, я заснул, ослабевший, и грудь поднималась и опускалась с хрипом, я проснулся от удара и сотрясения.
Защемило руку. Будто меня кто крепко держал. Я выдернул руку. Черная темнота опустилась, давила людей. Рушились нары. Тусклая лампочка, несмыкающий глаз барачной ночи, потухла. Мы выкарабкивались из-под груды досок.
Явственно, как шаги в тишине, защёлкали затворы. Немцам показалось, что ночь прервана бунтом. Раздался выстрел. Наверху проснулись. Кто-то там наверху крикнул, что немцы внизу расстреливают мужей.
В нательных рубашках, с распущенными волосами прибежали жены и моя мать. Немцы отгоняли их прикладами. Женщины отводили приклады и рвались к двери. Кто-то требовал врача. Зачиркали спинки. Нары сомкнулись, как буфера на прицепе. Вылезали из-под нар. Сбрасывали доски. Обвязывали раны простынями. Крики женщин упали на панику в мужском бараке, как нары. И еще кто-то крикнул -- пожар!
Загорелся электрический вентилятор.
Немцы открыли дверь. Женщины кинулись и перемешались в дверях с выбегающими мужчинами. Никто не мог понять, что случилось, и прежде всего немцы. Кого расстреливали, что горело? Растерявшийся Пупсик крикнул что-то громкое, как никогда.
Нас согнали в куну на дворе. Барак горел. До приезда команды никто не тушил начинавший трещать барак.
Огонь затушили, и, когда началось утро, нас повели обратно. Подъем прозвучал, как всегда. Многие прилегли на оборвавшиеся, обгоревшие нары, но были подняты окриком.
Потом длился день самый обыкновенный.
И вот, наконец, на всю жизнь запомнилась пристань и утлый пароходик. За здоровье этого пароходика я долго ел кашу.
День отъезда откладывался, назначался. Сколько раз я разыскивал трубу, чтобы взять ее с собой.
Мы взошли на пароход. На берегу стояли мои друзья по мужскому бараку и староста с бородой. Они долго смотрели на пароходик. Не выпускали из своих рук руки жен. Плакали, не скрывая слёз.
Женщин, детей и врачей отпускали в путь по минированным морям. Тех же, кто мог проходить в России действительную службу, не подпускали к сходням. Когда отходил пароход, нам приказали спуститься в каюту. Женщина закричала. Ее уговаривали сойти вниз. Она же кричала, что хочет обратно на берег, не может оставить мужа, она передумала. Ее втолкнули за дверь.
На палубе осталась только команда. Я пролез и видел, как стояли они на берегу, и волны просились на берег. Шляпы поднялись как птицы, но не устремились вверх. Они долго ждали, пока не исчезнет пароход в морском просторе. На пустой палубе они видели нас.
Будто ветры вырывались из глубины. Пароходик наклонялся, вот-вот обвалятся здешние нары, придавят, и некому будет откинуть нар.
Мама лежала бледная в каюте, и человек, принесший ей пить, покачнулся и упал. Было очень кисло. Но все женщины обнимали друг друга, и какая-то тетя стиснула меня между колен и почему-то надкусила мне руку. Я высунул ей язык.
После из кают все выбежали на палубу. В пароходе что-то заворчало, он закачался, сваливаясь то на левый, то на правый борт. Все смотрели куда-то далеко. И, наконец, я увидел приплывшее чудовище. Что-то тяжёлое вращалось на нём, как медленная закрытая со всех сторон карусель.
— Они целятся в нас!
Самый главный на пароходе взял флаги и начал размахивать ими. Пароходик не трогался с места, волны шли от чудовища и хлестали через палубу.
Я не понимал тогда, почему опустились многие аи колени, мать прижимала к себе, зачем закрывали глаза и откидывали назад головы.
Было очень тихо, разговаривали только волны.
Это подошел, прилег на воду, придавивши гряды волн, черный и длинный бронированный крейсер.
С нашего пароходика снялась шлюпка. Капитан поехал разговаривать с другим капитаном. О нас не знал военный крейсер, несший службу в минированном море.
Капитан, вернувшийся с крейсера, поднимался по веревочной лестнице, спущенной с кормы, — казалось секунды очень медленно вместе с ним влезали по лестнице.
Жизнь первых русских, возвращавшихся по обмену на родину, не погружена в немецкие воды.
Крейсер пропустил пароходик и, ем ближе мы приближались к нему, тем сильнее заливали палубу порывистые и частые волны...
Остальное я не помню совершенно. Знаю только, что видел Стокгольм, что шел по шведской земле. Эта земля кончалась у моста через пограничную речку Торнео.
Колол резкий ледяной лобовой ветер. В белом капоре я перебегал мост. В воспоминаниях мост кажется бесконечно длинным. За частоколинами виднелась русская земля.
Вот-вот добегу - думал я -- а там уж нас ждет отец, там будет хорошо.
Обветренное лицо горело, как после обжигающего загара. И вот мы у частокола. Бегут все быстрее. Вот она русская земля. Все топают по окаменевшей от морозов земле, топают, чтобы убедиться и знать, что под ними вот эта, именно эта, а не какая-нибудь другая земля.
Козыряют жандармы.
Меня точно подбросило ветром, и я повис на шее бородатого жандарма.
Я прикоснулся к бахроме его усов. Жандарм, возможно, и быстро бы опустил меня на землю, но он увидел восторг, выпрямился и приподнял меня. Потом ещё раз заставили обнимать Бородина. Человек долго ворочал жандарма в разные стороны и смотрел на нас издали. На обложке одного из иллюстрированных еженедельников 1914-го года я до сих пор вишу на этой шее. У жандарма большие сучковатые руки. Одну из них он заложил за ремень казённого образца, другой поддерживает меня, и палец держит на пряжке на выпуклостях глазастого орла. Недавно я перелистывал журнал. Он хранится, как семейный трофей. Все годы меня сопровождали герои и жертвы в виньетках. Живые среди мертвецов. Награждение орденами св. Владимира первой степени с менами и бантами ефрейтора. Бомбардира, награждённого георгиевским крестом нетвердой степени, я вырезал, осталась только подпись.
Я на обложке в пушистом капоре. На родной земле! Восклицательный знак. За обложкой - запечатленные черты героев, самоотверженно проливавших кровь за царя и отечество. Корабельные гардемарины. Ротмистры. Великодушные серые герои. Вольноопределяющиеся. Супруга министра финансов у постели тяжело раненного. Вольноопределяющаяся Коковцева (Маргарита Коковцева), двадцатилетняя светская женщина в своем будуаре. Алжирский стрелок на часах в зимнем плаще с капюшоном. Военный священник с венгерской армии в походной форме. Волки на войне -- оригинальный рисунок акварелью. ,
А на другой стороне обложки: "Запоры, привычные запоры. Принимайте надёжное и безвредное средство Стомоксите д-ра Антона Мейер, которое действует всегда одинаково и освобождает желудок легко, нормально и приятно. "Памятники, часовни изготовляет недорого по всей России Вазин младший - старинная фирма".
В родной город мы приехали ночью.
Бабушка принесла сласти на вокзал.
И в первую нюнь, когда я спал дома, на своей кровати, врывались в сон протяжные крики "ауфштеен!".
По плацу в нашем городе маршировали солдаты без касок. Я чувствовал свое преимущество перед ними, ведь я знал солдат в касках.
Теперь, играя в солдатики, я делил их на русских и немцев, одного из немцев называл Пупсиком и забирал его в плен.
Я знал много немецких слов, и мне запрещали произносить их на улице.
За окном часто гремел оркестр. Я выбегал на улицу и вместе с мальчишками бежал впереди оркестра провожать солдатиков на войну в Германию, Берлин, Росток.
Раз в неделю я вырезал из журналов солдат и русских, и немецких и французов, и турок — наклеивал их на картон.
Над моей кроватью висел коврик. Ангелы вскидывали вверх руки, на ковре были вышиты короткие немецкие слова.
В городском саду устраивались гулянья и жгли фейерверк. Взвивались ракеты, мне было трудно дышать от восторга. Искрящимся дождем пролилась над нами ракита, и кто-то сказал - совсем как за фронте. Я стоял у киоска с бумажными цветами. За мной стояла дама в длинном платье со шлейфом. Она смотрела на проходящую публику в лорнетку и, когда замечала кого либо из достойных, откидывала лорнетку и вытягивала шею:
— Господин... В пользу бедных раненых... Продает мальчик, только недавно вернувшийся из ужасного плена. На мне был бант, и я кланялся так, как меня учили. К веснушчатой нашей Поле приходил по вечерам Вена. К его ботинкам словно была прибита доска. Я всегда слышал — шагает Вена, пришел Вена.
Полю вначале он называл "Маруся-Марусенька". Он приходил, садился на табурет и молчал. Потом делал удивительные вещи. На кухне приладил полку с разными ящичками, починил мне трёхколесный велосипед и над дверьми приделал трапецию. Учил кувыркаться и особенно был доволен, когда я, качаясь, выкрикивал "хох".
Вена грыз семянки, и над ним смеялись на лавочках, когда он не кидал шелуху, как все, на мостовую, а собирал ее в ладонь. Скоро он стал называть Полю... Полей. Я несколько раз заставал их. Они сидели обнявшись. Я садился к нему за колени. Он брал меня за руки и перекидывал.
Я обучал Вену русскому языку. Про Полю он говорил «он пошел», и нам было очень смешно.
Вена был военнопленный, как и я недавно. Он жил денщиком у военного доктора, чистил ему мундир и сапоги, делал ему удивительные вещи, за что все его, Вену, уважали на нашей улице.
Через день ко мне проходил Снег.
Снега нашла бабушка. Она приносила мне халву, медовые пряники, сладкую редьку и однажды привела Снега.
Снег не посмотрел на меня. Он сел у стела. Вытащил книгу, перелистал несколько засаленных страниц и сказал:
— Мальчик, ты должен знать то, что знают твои бабушки, и что знал твой дедушка. Вот эта буква - и Снег показал мне закорючку.
Буквы казались мне очень смешными. Будто другие правильные буквы смотрелись в зеркало, а эти значки — их гримасы.
Снег показал мне все значки и закорючки, извивающиеся палочки и черточки, а потом сказал:
— Ну, а теперь читай, мальчик.
Я молча смотрел на Снега. Он показался мне мучителем.
— Будь внимательнее, мальчик. Тебе будет тринадцать лет, и у тебя будет бармицве, но еще в этом году ты должен будешь сказать фиркашес, и чтобы все знали, что это учил тебя я.
Снег снова показал мне всю древнееврейскую азбуку и задал урок. Он оставил мне свою книгу, на одной из страниц ее отметил крест ногтем.
Снег недавно приехал в город с огромной семьей, сыновьями и дочерьми. Их звали беженцами. Снег был обременен. И должно быть, моя сердобольная бабушка из-за двух пар близнецов решила, что ее внук должен изучать язык, на котором написаны Талмуд и Тора.
Снег проходил и не снимал галош. Окурки он клал около пепельницы. Сюртук его был застегнут на все пуговицы. Штаны свисали бахромой. Точно кто пальцами прижал его щеки. Две воронки сливались на лице. Волосы росли недружно, вразбивку, несогласованно, все они забились грязью, а на бородавках были тучными, как зеленый лук.
Смотрел Снег всегда вперед. Когда он показывал буквы, казалось, что читает их не по книге, а в окне. Он не замечал солнечных зайчиков, разбегавшихся по комнате от стеклянной люстры, и самое главное, Снег не замечал меня. Он то бормотал что-то нараспев, то цедил сдержанно что-то шершавое. Я повторял бессмысленно, смотрел на штаны Снега, на грязную сорочку и думал о том, какой он несчастный человек по сравнению с Веной, и что стало бы с ним, если бы он перевернулся на трапеции.
Снег бормотал, перелистывал страницы, а я в это время слюнявил и ожесточенно тер бумагу, переводя переводные картинки — слона и барабанщика.
Кроме Вены и Снега, из недавних жителей города меня занимал Каменецкий. Он спал у нас на диване и назывался вольноопределяющимся. Каждое утро уходил до того, как пили чай. Появлялся к обеду. Ему наливали тарелку до краев. Он поглощал ее, ему наливали ещё тарелку, и она исчезала так же быстро. Потом Каменецкий ворочался на стуле и щипал хлеб.
Он дожидался, пока другие примутся за второе. Каменецкий ел и рассказывал, как у них там, где маршируют солдаты, и как и что ему кто-то сказал. Говорил он очень быстро, точно боялся, что не успеет съесть все слова, и поэтому набивал ими рот.
Я знал, что Каменецкий не хочет идти на войну. Он ерзал на стуле и терзал свое прыщавое лицо. Мама смотрела на меня и всегда говорила:
— Вот за него я спокойна, его не возьмут, он единственный сын. Как я боялась, чтобы мой второй ребёнок не был бы мальчиком, но все вышло так, как я хотела.
— Меня не возьмут — думал я, мне может завидовать Каменецкий. Но если бы взяли, я был бы впереди всех на коне и размахивал саблей. Ведь и так я победил офицера.
Внизу под нами (мне было шесть лет и у меня была любимая), жила моя любимая. Она брала меня на руки и позволяла вынимать гребенку из волос. Волосы падали, как занавес, и закрывали меня. Она часто катала мой обруч. Смотрела всегда смеющимися глазами, и, когда я готов был обидеться, она поднимала меня, и я торжествующе вынимал гребенку. Зубы ее были, как клавиши на рояле.
Я думал — когда мама будет лежать на диване, я побегу за ней, подведу ее, мы встанем на колени, и я попрошу благословения.
И вот однажды я встретил ее. Она шла по центральной аллее городского сада. Офицер вел ее под руку. Он был намного выше, и когда говорил, наклонялся.
На мне была сабля. Мне купили ее в «Товариществе На вере». Все видели саблю, потому что, кроме сабли, на мне была новая шапка. Над кокардой поднятой рукой возвышался султан.
Она прошла мимо, не подняла и не опустила глаз.
Я вытащил саблю. Вырвался из рук того, с кем шел. Преградил им дорогу. Она собралась смеяться, а я взмахнул, саблей и напряг силы, чтобы всадить ему в живот. Он чуть вскрикнул и сразу же рассмеялся. На нас смотрели. Я подпрыгнул и нанес ему удар по лицу. Он не успел еще рассмеяться. Я направил саблю в самую середину его тела. Сабля изогнулась. Он скорчил гримасу. Меня одобряли. Я не взглянул на нее и пошел дальше, поправляя шапку. Так поплатился офицер, увлекший мою первую любовь.
... Зажигались развалистые плошки.
Я смотрел с подоконника на горящие головы приземистых существ, выстроившихся по краям тротуаров. Ветер точно сносил эти головы, они наклонялись все в одну сторону.
В моей комнате, в столовой, где бьют часы, и на кухне, и за окном, где плошки, где асфальтовый тротуар, по которому я днем взад-вперед громыхаю на трехколесном велосипеде, и от пола до потолка — тихо и спокойно так же, как под одеялом, когда еще не спишь, но натягиваешь одеяло на голову, чтобы свет не пробрался в огромный мир, лежащий под одеялом, где складки пододеяльника, как горы. И в этом мире, и в том, который виден, если приподнять одеяло, все спокойно и ровно, как на застывшей реке.
Я не доверял тикающему маятнику и ежевечернему маминому поцелую. Что-то должно произойти. Или комод передвинут, или я себе занозу в палец всажу, или пожар будет, или Снег меня в угол на горох поставит, или я кого-нибудь велосипедом задавлю, или нары обвалятся. Но ведь здесь надо мной нет нар — ничего не обвалится.
Я вздрагивал, когда проносилась под окнами вольная пожарная дружина. Я тосковал по заливающемуся рожку, по звону, по суматохе.
Иногда ночью мне снилось — я стою на черной лестнице. В пролет летят большие хорошо испеченные жирные хлеба, а за хлебами я сам лену вниз... Просыпался в поту и трогал себя руками, цел ли? И тогда не мог заснуть. Все казалось - совсем рядом, чернее темноты, жерло пушки, наведенной на нас тогда в море.
А вот Каменецкий, он так много ел и разговаривал. А однажды почти ничего не ел, ему не налили вторую тарелку супу — он не съел первую. Мама говорила ему, что жалеет его как сына, как меня — Володю. Ему укладывали чемодан. Многое из того, что туда положили, он вынул обратно. Перед его отъездом все сели на стулья и минуту молчали. Он долго прощался с Веной. Не говорил, как всегда, а все смотрел на Вену. Они сидели друг против друга за табуретках.
На другой день играла музыка. Я восседал на подоконнике и был на улице. Солдаты топтались на месте. Им кричали, и они отвечали криком. С тротуаров на них смотрели жители города. Солдаты топтались и уходили дальше.
На тротуаре я увидал девушку с длинными волосами. Мне было плохо видно. Она подняла меня. Мае хотелось посмотреть, как выглядит сейчас, как топчется Каменецкий. Но я видел сотни голов, одинаковых, как барабаны на переводных картинках. Зато я увидал мной побежденного офицера. Он шел впереди солдат. Он увидал ее, кивнул головой. Он не мог обернуться назад, не мог подскочить и взять ее под руку, не мог отомстить мне. Он должен идти вперед.
Она хотела идти по тротуару наравне с ним. Нас сносила толпа. Опустила меня. Потом опять подняла и пошла назад.
В этот вечер долго слышал я, как говорили взрослые в столовой, и думал о том, что будет рассказывать, когда вернется обратно, вольноопределяющийся Каменецкий.
И еще через какое-то количество дней меня не пустили на улицу, потому что происходило то, о нем писали и читали в газетах.
К нам пришли гости. Провизора, дантисты, доктор Лурье — обычно он не приходил, мы жили на третьем этаже, а это был самый высокий этаж города. Доктор Лурье был толст. Я взбирался на его живот и пытался произвести операцию — достать яблоко, которое он съел, т.е. спрятал за брюки.
Доктор Лурье не хотел худеть. Он переходил улицу, переезжая ее на извозчике. Боялся много ходить и всегда в кармане носил шагомер, чтобы знать точно, как мало шагов сделал он сегодня. Доктор не вмещался в качалку. За столом он сидел в кресле. Голова свисала на скатерть.
Я видел, как из щуки доставали рыбок. В докторе Лурье в его животе живет что-то им поглощенное, тоже очень огромное.
Пришел доктор Лурье. Пришел мой дядя, изобретавший ваксу. На ботинки, вычищенные дядиной ваксой, не должна садиться пыль. Пришел дядя, и все смотрели ему на носки. Доктор Лурье произнес тост.
Мне налили, и я выпил. Я попросил еще, но мне не дали. Но другие все пили. Вставали и пили, обнимались. Моя мать произнесла тост. За того, кто стал вместо царя — так я понял. И все опять пили и обнимались. А мой дядя, изобретатель ваксы, затопал ногами. Что он этим хотел сказать, я не понял, но я тоже затопал ногами, когда мне велели идти спать. Кто-то попросил за меня, и я остался еще на полчаса.
Я смотрел на доктора. Вот-вот из него вылезет большая рыба, обязательно кит. Он положит его на тарелку, разрежет на маленькие кусочки и опять съест. Блюда придвигались к доктору. Он первый начинал каждое кушанье, начинал с условием, что если что останется на блюде, он должен доесть.
Потом меня увели спать, и я сделал общий поклон всем.
Ночью я несколько раз просыпался. Слышал голоса, шаги и опять засыпал, уверенный, что доктор ест кита.
Утром же у всех лица были грустные и строгие. Мама что-то сказала, а отец замахал на нее руками и что-то прошипел. От Поли я узнал, что с доктором случилось что-то нехорошее. Он пришёл домой, стал раздеваться и умер, расшнуровывая штиблеты.
В этом же году я прочитал на экзамене "Скажи-ка, дядя, ведь недаром". Меня не стали больше спрашивать и приняли в гимназию. Каждое утро мне завертывали завтрак. В гимназии нему-то учили, и на переменах я ел завтрак и смотрел, как дерутся гимназисты с воспитанниками коммерческого училища. Дрались они здорово, как на войне. Я так увлекался их боями, что выстриг большое солнце на крохотном затылке ни в нем не повинной сестры. Потом ее повели к парикмахеру и остригли наголо, как солдатика.
Мне не успели сшить длинные штаны, как я перестал ходить в гимназию и показывать перед входом в класс чистые свои ногти.
Опять несколько дней мне не позволяли выходить на улицу. Но теперь никто не радовался у нас. Скоро после этого дом, в котором была наша квартира — самый большой дом в городе — заняли под самое главное учреждение. Мы обедали, в столовую вошла женщина в верхнем платье и сказала, что нам дается квартира в доме рядом, а эту квартиру мы должны освободить в двадцать четыре часа. Мы не кончили обеда. Сразу же начали перетаскивать мебель. Мама все боялась, как бы не разбили трюмо.
На новой квартире за забором был сад, заросший лопухами.
Я засовывал за пояс лопухи и ходил, покрытый ими, как панцирем. Мальчишки научили петь песни. Целый день я надрывался и тянул «под черным гранатом». Я часто путешествовал по вокзалу, пролезал под ноги и толкал без того толкавшийся народ. На вокзальной площади произносили речи. Мы всегда хлопали, занимая лучшие места впереди.
Вскоре я стащил из буфета банку варенья. Ел варенье столовой ложкой и очень спешил. Потом налил в банку воду из графина, скрывая произведенное опустошение.
Вена целыми днями ходил по улицам. Он тоже любил слушать речи, и все, что ему удалось понять, выкладывал Поле; все то, что ей говорил Вена, она понимала смутно и тревожно.
Потом к нам пришел Вена и сказал, что пришел проститься, он уезжает в Германию, там он очень нужен, он забирает с собой Полю.
Все мы ходили провожать их на вокзал. Вена сказал, что они скоро вернутся обратно к нам в гости.
С Полей я часто ходил в Успенскую церковь. Поля становилась на колени, и я становился на колени. Мни было сладостно. В полумраке горели свечи, и лица у всех были пенальные, как на картинах кругом. Поля рассказывала мне о Христе, и я ей поклялся любить Христа. Я носил на груди крестик из двух перевязанных спичек. Если бы знали об этом Снег и бабушка!
Когда Поля стояла на подножке вагона, она сказала:
— Ты крестик на память обо мне носи.
Ушел поезд, превратившийся в кружочек, а потом в точку. Я слышал — поют женские голоса и, когда они перестают петь, замирает что-то внутри.
В одну из комнат к нам поселили жильца. Когда он приходил к себе, все говорили тише — боялись, чтобы он не услыхал. Служил он в том доме, где была наша квартира. Говорили, что он сидит как раз в моей детской и что там к окну привинчена решетка. Уходил он из дому всегда вечером и приходил, когда светало.
Утром мне не позволяли шуметь, потому что он спит и потому что он злой и опасный.
Однажды утром я нарочно шумел. Снял с граммофона трубу, подставил ее к замочной скважине его двери и зашумел. Я хотел, чтобы он выскочил и набросился на меня, злой и опасный. И тогда бы я спросил его:
— Зачем вы расстреливаете людей?
А про него говорили, что он расстреливает людей. Ему бы стало стыдно, я смог бы шуметь каждое утро, шуметь и гудеть в трубу.
Не успел я прогудеть, как меня охватили за шиворот и оттащили от двери и стали наказывать не ради наказания, а для того, чтобы он слышал, как меня наказывают.
— Да кричи же громче, дурак!
Но я не хотел кричать громче. Тогда мне со злостью ущипнули руку, и я закричал всерьез.
Он вышел из двери. У него волосатая грудь.
— Уж поздно. Что это вы его? Пусть гудит. Когда я сплю, меня ни один черт не разбудит. Это я не от концерта проснулся. Возьми-ка трубу, ну-ка погуди!
И тогда я, исполняя свой план, отошел в сторону и крикнул ему, будто меня еще кто ущипнул:
— А правда, правда вы людей расстреливаете? -
— А ты вот пойди ко мне, я тебе все и расскажу.
Я не хотел показывать свою робость и вошел в комнату, но думал — лишь бы он не закрыл дверь. Он закрыл дверь. Теперь я целиком в его власти.
— А кто тебе сказал, что я людей, это того, расстреливаю?
— Все говорят. А это что у вас такое? — спросил я, чтобы он больше у меня не спрашивал, а отвечал сам.
— Это у меня пушка.
Он вытащил револьвер из кобуры. Что-то покрутил. На его ладонь поскакали пульки.
— А теперь смотри — сказал он и стал вывинчивать отверткой винт. Его револьвер оказался складным. Он разложил его на крючки и пластинки. Потом снова сложил и закрутил винты.
— А теперь возьми, пойди покажи матери, только смотри не урони. Я крепко держал револьвер. Я уж давно мечтал о пугаче. Но мне не
покупали пугач, потому что я не хулиган какой-нибудь — так говорили. Я был горд тем, что мне доверяли такую вещь.
Понес револьвер матери и хотел положить его ей на колени. Когда она увидела в моих руках револьвер — вскрикнула и задрожала. Тряслась и кричала.
— Сейчас же отнеси назад, этим не шутят!
Мне даже стало жаль мать. Так она перепугалась. Она бы не могла дотронуться до него. А я нес револьвер обратно и думал заткнуть мизинцем дуло.
— Ну что тебе сказала мамаша, она не сказала, что ты людей расстреливаешь? -
— Она сказала, что этим ни шутят.
— Ну конечно, не шутят.
С этого дня жилец стал моим другом. Я садился к нему на кровать, и он мне рассказывал. Я даже не сдержал своего обещания Поле и снял спичечный крест.
Когда к жильцу приходили его товарищи, он поднимал меня и опускал за дверь. Мне хотелось знать, о нем говорят они, что делает он нонами, что теперь в моей детской. Но спрашивать больше не осмеливался. Один раз он только сказал сам:
— Нет, мы, брат, не расстреливаем, мы сапоги скидаем, счастливый ты мальчик.
— Чем же я счастливый? Вот он, он счастливый, а у меня нет никаких тайн, кроме банки без варенья, но все равно и до этого доберутся.
В городе появились совсем другие люди. Я знал, что в доме, где мы жили раньше, штаб Южного фронта.
Лето 1919-го года принадлежало мне. Я перелезал через все
заборы. Видел, как жилец сам чинил себе широкие по бокам брюки, и тоже
накладывал швы на целые свои штанишки.
Образ моих действий вызывал ужас и родительский испуг.
Над кроватью я повесил портрет самой главной большевички Коллонтай. Я отказался от Снега. Отец снял с меня ботинки и пытался быть строгим. Я удрал босиком, асфальт жег ноги. Прогуливался у окон аптеки и любовался огромными красными шарами. В шарах отражалась улица, она изгибалась, как обруч. Я погружал свое лицо в красноту шара.
Отец не замечал меня. Он отпускал лекарство: иноземцевые капли, валерьянку, нашатырь и питьевую соду.
Мишка Гордон, убежавший однажды на войну и возвращенный с первой станции, говорил, что он анархист. Когда он увидел меня босиком, предложил записаться в его партию. Его партия стащила у вдовы Умрихиной сенбернара. Его партия выбивала окна. А на другой день по улицам шел друг Гордона - стекольщик Абрам из беженцев и кричал, что он вставляет окна.
Я не вступил в партию Гордона.
Его партия выбила окна в доме моей второй любви Гени Калиновской. Мы были с ней одинакового роста. В горелки играли одной парой, и я всегда ловил ее — она бежала мне навстречу.
Когда играли в прятки, мы прятались с ней в крокетном ящике. Ящик затаскивали в лопухи. Прижимались друг к другу и молчали. Однажды мы заснули в ящике, и нас нашли взрослые, когда решили играть в крокет и искали шары. Нам было стыдно, и при всех мы с Геней больше не разговаривали. Старшая сестра Ванда смотрела на нас очень насмешливо, так что в ее комнате Гордону следовало бы еще раз выбить окно.
Геня убегала домой, а я долго смотрел ей вслед, потом шел, стараясь не сбиться ни на шаг до ее двери. На первой странице новой клеенчатой тетради я вывел: «Погиб поэт, невольник нести». Мне казалось, что это мои слова, только мои. — «Погиб поэт, невольник нести, я погибаю, я помираю».
К концу лета все ждали событий. По городу носились два грузовика и три легковые машины.
Грузовики останавливались у штаба.
К вокзалу тянулись подводы.
Обрывки бумаг устилали подъезды. Всюду двери были открыты настежь. Штаб Южного фронта эвакуировался.
На заборах и столбах висели объявления, их прочитывали и ждали других.
Вначале мне показалось, что где-то рядом выбивают подушки. Я вслушался в грохот. Нет, это не так близко. Грохот всюду. Он обрушивается и снова возникает, только слабее и отдаленнее, как короткое эхо. Будто гонят со всех сторон стада быков. Быки упираются, топчут землю. С гулом опускаются на них широкие бичи. Быки упираются и мычат все разом.
Даже у кошки глаза стали огромней.
Небо упадет на землю, как крыша на мостовую.
Вздрагивали и мама, и дом.
Грохот и уносящийся скрежетом гул и сотни звуков сдавили обычную в этот нас предрассветную тишину. Кругом все шумело и взвизгивало, но все как бы прислушивались, стараясь услышать что-то другое, и говорили тихо, точно боялись кого разбудить, хотя никто не спал всю нюнь. Первый раз, должно быть, со дня основания, город слышал канонаду.
Жильца не было. Дверь в его комнату была раскрыта.
К утру все стихло. Грохот прошел, как гроза. Изредка что-то шипело и падало где-то совсем рядом.
Но это уж меня не удивляло. Я вышел на улицу. Люди шли, оглядываясь, шли, прижимаясь к стенкам. Всюду были закрыты окна, кроме дома, где еще вчера был штаб. На лестницах валялись рогожа и бумага, двери были открыты, казалось, что дом проветривается.
Я поднялся по лестнице. Меня никто не остановил, а ведь здесь всегда стоял часовой и нанизывал разноцветные бумажки за штык.
Дверь нашей прежней квартиры тоже была открыта. Я подошел к открытым дверям моей детской. Обои перекрашены серым. Только один квадрат розовый. Здесь висел портрет. К окну действительно прибита решетка. Я забрался, как всегда, на подоконник, посмотрел вниз.
Увидел согнутые спины. По тротуару бежали в оборванных шинелях без хлястиков, с винтовками в руках. У одного перевязана голова. Из-под марли выбился, будто вздыбленный, клок волос. Один же из них отставал. Он все время падал, но, падая, удерживал себя, упираясь рукой в колено. Они бежали по тротуару так, как будто это было поле. Должно быть, первый раз в нашем городе, оглядываются и смотрят на здания, как я смотрел в театре на декорации.
Пробежали. На тротуаре никого нет.
Я соскочил с подоконника, выбежал из детской и побежал быстрее, нем только что бежали они.
Дома меня назвали "проклятым мальчишкой". Мать схватила за руку.
— Не смей больше уходить.
— Я отведу их — говорила она отцу.
— Не смей, вечно твои истории!
— Но ведь говорят…
— Мало ли что говорят, все должно остаться на своем месте.
Мать не послушалась отца и отвела меня и сестру к учительнице Марии Васильевне Поляковой. Я предполагал, что в гости.
— Смотри же, держи себя, как старший — сказала мать, она целовала длиннее, нем обычно.
Несколько часов было скучно. Потом все вышли на улицу. Точно река вскрылась или троицын день, окна открылись. Выходили на улицу в новых голубых, розовых платьях, мужнины поверх косовороток одели пиджаки, и можно было подумать, что до этого так мало людей было на улицах, потому что всем было некогда — чистили сапоги и наряжались.
Все смотрели в сторону, откуда должны были появиться они.
Вышли также — и перед ними расступились — бывший голова городской думы Калмыков, купцы Дороховы и Воробков и все, уплатившие недавно контрибуцию. Из соседнего дома им вынесли стулья. Калмыков был грузен, он медленно поднялся и уступил свое место дурочке Куприянихе, которая была самой богатой и осталась самой глупой женщиной в городе. Ее тощие волосы завернуты в бумажки. Она смотрела по сторонам, и, когда всех оглядывала, доставала из ридикюля румяна и терла щеки. Калмыкову вынесли кресло. Он сидел, а на коленях держал блюдо, накрытое накрахмаленной скатертью. Все блюдо, так же, как Калмыков кресло, занимал поджаренный и маслом протертый хлеб. В резной из дерева солонке покоилась поваренная соль.
В стороне на углу неподвижно стоял старик Кауфман. Мальчишки любовались его цилиндром. Кауфман натянул на руки белые лайковые перчатки и впереди себя держал раскланивающийся во все стороны букет роз. Больше всего Кауфман походил на гробовщика, хотя по профессии он — ювелир, лучший в городе.
Там, откуда должны были появиться они, поднялся сухой пыльный туман. Из пыли вырвался всадник. Лошадь метнулась, точно хотела вывернуть круп.
Калмыков поднялся. Куприняниха встала на стул и начала выдергивать и рвать бумажки из волос.
Всадник ускакал. Пыльный туман нарастал и приближался. Сквозь него прорвалась людская быстрина - людей, повозок, коней. За ними бежали радостные и оголтелые жители Ямской улицы.
Казаки метали в толпу суконные и полотняные отрезы. Они разворачивались на лету и текли дорожками над головами. Полотно надгрызали зубами, рвали, вязали в узлы. С повозок, как булыжники, летели окорока и кольца колбас. Один из казаков приподнялся на стременах и сбрасывал с себя, как циркач, жилетки, дамские кофточки.
На тротуар сыпались пригоршнями конфеты, пуговицы, подвязки. Разбивались коробки с пудрой, пудрили мостовую, лошадей.
С завоем бил колокол.
Калмыков двинулся вперед. Ожил Кауфман. Он не нагибался за пуговицами и не ловил полотнищ. Снял цилиндр, опустил руку в лайковой перчатке к напудренной земле, а другой — протянул розы. Должно быть, приготовил речь, но не мог начать ее здесь. Кауфман заронил язык. Он увидел: тот, кому он простер букет, хочет пощекотать пикой его разглаженную бороду.
Старик споткнулся и упал на мостовую.
Он крепко держал в руках букет. Букет выбили ногой. Накрахмаленная грудь ювелира надломилась. Кауфман что-то искал руками, он гладил камни мостовой, точно это были драгоценные камни, загрязненные, как и его перчатка, сапогом.
— Поднять его! — раздалось сверху. Старика приподняли.
— А ну стой! — казак зажидюкался.
— Стой, говорю! — он ожег нагайкой лицо Кауфмана. Кауфман свалился плашмя.
— Поднять его! К Кауфману бросились из толпы. Его подпирали и толкали в бока. Я хотел видеть все это как можно дольше. Но Мария Васильевна разыскала меня. Она сказала:
— Иди за мной, только так, чтобы никто не заметил, что мы знакомы.
Мне не хотелось покидать пиршество. Но я подчинился. Особенно запомнился китаец. В первый раз в жизни увидел живого китайца. Казак зацепил пикой его рубашку, будто пика - удочка, а китаец - вместо червя. Он бежал впереди лошади, отодвинутый от нее пикой. Не мог замедлить бег — его подгоняла пика.
Китаец удивил Куприяниху. Она спрыгнула со стула и бросилась в толпу, как в воду. — Разве такие бывают? — кричала она.
После я узнал, что это был за китаец. Красные во время обхода забыли снять с поста красноармейца-китайца. Он стоял на посту с винтовкой до тех пор, пока его не захватил казачий разъезд.
Сестра моя разрисовывала кенгуру на картинке. Я хотел ей помочь. Не успел покрыть желтым детеныша, как в комнату вошли и сказали, что, если мы хотим дальше жить, то должны лезть под диван и молчать, пока нас оттуда не позовут. Сначала полезла сестренка, за ней и я. Она положила свою голову на мой локоть.
— Это мы с тобой в герои играем — прошептал я и решил считать до тысячи. Не отсчитал первую сотню. В комнату вошли. Я толкнул сестру.
- Не сопи.
Она лежала, прижавшись по мне, потная, как в болезни после чая с малиной. Мне казалось, что со мной рядом не сестра, а маленький горячий кенгуренок.
Человек, вошедший в комнату, ступал, испытывая прочность дощатого пола. Он зацепил ногой дорожку и отбросил ее в сторону. Я видел в щелку его сапоги со шпорами и туфли матери Марии Васильевны. Тот, кому принадлежали шпоры, передвигал стулья. Он был недоволен стульями. Я слышал, как он чавкал, поглощая еду. Разбил тарелку. Осколок заскочил под диван. Он ел, жевал и рассказывал. Он говорил о нас — обо мне, о сестренке, только без фамилий и имен.
Я не мог проглотить слюну. Она высохла как-то сразу. Он рассказывал, что был в больнице, там жиденята лежат розовей поросят, большевики жиденят лечат, а он жиденят за пейсы дергает, у маленьких жиденят пейсы еще не отросли, но носы у них длинные. Он скреб вилкой по тарелке и кричал:
— Я их, жиденят, вот так.
Как это он нас — мне не было видно, я видел только сапоги.
Сестра поняла какую-то часть его слов и заплакала. Я толкнул ее. Вот-вот и она разревется во всю. Я закрыл ей ладонью рот. Ее лицо вздрагивало, точно оно было из студня. Сейчас он услышит, а может, услыхал и сейчас ... вот... так. Я сжал кулак и засунул сестре в рот. Она кусала мне руку.
В другое бы время я закричал сам, но сейчас только зажмурился, пыль забилась в глаза. Всхлипывания сжимали молочные и прорезывающиеся зубы сестры. Слеза смыла соринку с глаза, я подумал и оцепенел... Но ведь она может задохнуться. Одной рукой я гладил ее волосы, а другую медленно вынимал изо рта.
Диван застонал. Сжались пружины. Будто он лег прямо на нас.
Задули лампу. И под диваном стало совсем черно. Так, должно быть, чувствуют себя ожившие мертвецы под крышкой гроба.
Я вспомнил, как сестра недавно сдула одуванчик и сказала:
— Я потушила лампу.
Я не знал, сколько прошло времени. Он храпел, и диван помогал ему. Диван тяжело дышал ему в такт — это я чувствовал по пружинам. Мне было трудно дышать, я засыпал...
...Плыву под водой, и у меня изо рта выдергивают тростник. Я дышал через него свежим и холодным очень сладким воздухом. Ведь так дышат индейцы, когда в воде спасаются от врагов. Это мне рассказывала сама же Мария Васильевна. Я засыпал, когда вдруг почувствовал, что меня дернули. Высуну голову, вот он схватит меня за волосы. Но услышал знакомый шепот. Выполз и потащил за собой спавшую сестру, только бы не проснулась. И двинулся туда, где блеснул свет в приоткрытую дверь. Чудовище на диване храпело. Я прошел в раствор двери. Сестра спала у меня на руках, у меня взяли ее. Она так и не проснулась.
Должно быть, уж забыла, как кусала мою руку. У меня на руке следы ее зубок, как браслетка.
Утром на меня и сестру надели настоящие металлические кресты и учили креститься. С меня сняли матроску и облачили в косоворотку и длинные штаны в заплатках. Это был первый день в моей жизни, когда я получил право ходить в длинных штанах. Раньше я завидовал тем, кто ходил в длинных штанах. Но сейчас я расставался со своими синими штанишками, они были отплывающим пароходом от берега, где я был столько раз по-настоящему доволен. Если бы я одел длинные штаны не в этот день, то я, конечно, взобрался бы на стул перед зеркалом и думал о том, как буду догонять в них Геню. В длинных штанах я ни за что бы не полез в крокетный ящик. А в этих — они и сшиты для того, чтобы в них под диваном лежать.
Сестру повязали платочком. И она сделалась от этого еще меньше.
Мне объяснили, что здесь нам больше оставаться нельзя. Дом занимают казацкие начальники. Может быть, сюда придет сам генерал Мамонтов. Нас же переведут в другое место. Только чтоб по дороге не разговаривали, и я не произносил бы слов, где имеется буква Р. Так что ту, которая повела нас, я не мог называть — ее звали Верой.
Народ будто всю ночь оставался на улице, а сейчас все возвращаются с базара и накупили всего слишком много.
Старушка обхватила шкаф и волочила его по земле. Хлопали дверки. Она оттаскивала шкаф на несколько саженей и убегала обратно, смотря все время на шкаф. Она поднимала таз для белья, наполненный разными вещами, и тащила его к шкафу. Потом опять волочила шкаф.
Другие несли ночные горшки, платья на вешалках, подносы, рамы от картин. Такой ярмарки еще не было в городе.
Вера вела нас быстро. Мы сходили с тротуара, уступая дорогу казакам. Они ездили по тротуарам, высоко заносили над собой сабли, рубя ветки с деревьев.
Один из казаков держал в руке длинную бумагу.
— Что здесь написано? — кричал он приказчику из булочной Сушкова — что написано, будто жид про жида писал?
— Фамилия Снег — прочитал приказчик.
— Эй, где здесь жид Снег живет? Сейчас снег падать будет! — заорал казак. За ним побежали. Мужики погнали подводы.
— Вот тебе и снег на голову!

Жид - Снег - жид - Снег - так билось мое сердце. Я бы выучил в один присест несколько древнееврейских азбук… А что если побежать и сказать Снегу, что его идут убивать. Я ни разу не был у Снега.
— Не оглядывайся, — сказала Вера и потащила за собой.
 С одной подводы прямо на меня смотрела мать.
Она смотрит на всех нас глазами, будто желает спокойной ночи... Каким образом
оказался на подводе, прислоненный к корыту, портрет моей матери?
С одной подводы прямо на меня смотрела мать.
Она смотрит на всех нас глазами, будто желает спокойной ночи... Каким образом
оказался на подводе, прислоненный к корыту, портрет моей матери?
Мы проходили площадь. Вера остановилась. Она хотела пойти обратно — посередине площади лежало тело. Точно кто стянул с него одеяло. Он лежал в кальсонах и смотрел на небо.
— Какой он толстый, подумал я. И там, где завязывают галстук, у него что-то синее. Я узнал его. И Вера узнала. Они вместе танцевали на вечерах, когда он приезжал на каникулы к своим старикам. Кто-то заложил ему руки за голову. Шура Ряшанский смотрел на небо.
Я сказал — Вера! — Кругом нас никого не было. На моей груди болтался крест.
Сколько раз переходил я эту площадь, когда шел в гимназию. Мне показалось, что я перешагнул через Шуру и упал на него.
Как высоко прыгал Шура через костер.
Мой подбородок задрожал, мы прошли мимо. У меня болела спина, казалось, тело Шуры ползет по площади вслед за нами. Так мы подошли к дому. Вера повела нас по лестнице, вместе с нами влезла на чердак. Там нас встретил Шер - жених Веры.
Он боялся всего. Ему казалось, что могут влезть в слуховое окно. Он сидел на перекладине, будто наказанный, вставал, прислушивался к своим же шагам и шел к двери. Он заслонял собой дверь. Подходил к сестренке. Брал ее на руки и говорил Вере: — Ну, поцелуй нас. Вера целовала их обоих, и Шер говорил ей:
— Тебе хорошо, ты будешь жить, ты — русская, вот те крест, русская. А вот у нее крест — он показал на сестру — она воровка, недаром мы все на чердаке.
Вера приносила нам еду. Когда она вышла, Шер отвел меня в самый темный угол и сунул в руку бумажку.
— Вот только не говори ей. Если сюда придут, ты проглоти это, как порошок. Я не хочу, чтобы над тобой издевались. Ты обязательно проглоти. Мне показалось, что я лежу рядом с Шурой Ряшанским, с меня стащили длинные штаны, и мои ноги в царапинах.
Я спрятал порошок. Изредка дотрагивался до бумажки, смотрел на Веру, мне хотелось к ней прижаться и обнять ее крепко, крепко, и чтобы она видела, как я высыплю себе порошок, если нас придут убивать.
— Вера, как ты думаешь, только скажи правду, они еще не убили папу и маму? Ты мне все равно не скажешь. Вера! Если они живы, ты им передашь от меня письмо.
Я написал на клочке бумаги, и слезы, будто капли на горячей плите, высыхали, не вытекая из глаз.
"Папа и мама, дорогие! Они звери. Я им этого никогда но забуду, если останусь жить. Теперь я стал настоящим коммунистом, больше, нем раньше. Чувствуем мы себя хорошо. Володя».
Когда я написал, я схватил себя за подбородок. Он дергался, как тогда на площади, словно кто толкал мою голову.
Шер смотрел то на меня, то на Веру. Стало совсем темно, мы легли все рядом. Я держал Верину руку. Казалось, что она все еще ведет нас.
А после меня долго будили Шер и Вера — я, просыпаясь, засыпал снова. Шер схватил меня и поставил на ноги. И, когда я проснулся, услышал — крыша сотрясается под шагами.
На чердаке жарко, как в духовке. Слышны голоса, треск. Будто падают деревья, балки, будто масло шипит на огромных сковородках.
— Сюда могут прийти каждую минуту. Я не останусь здесь больше — говорит Шер. — Они придут тушить огонь, но нас сожгут, обязательно сожгут.
Рядом горел дом. Мы оставили чердак. Вера повела нас в сад, и мы легли в мокрую траву. Свет из окон широкими кругами сползал в сад, а из отдаления лампой-молнией светила пламенеющая крыша. Небо казалось приставленным к земле где-то сбоку, и расстояние между небом и землей было наполнено прозрачно синим.
Когда Шер слезал с чердака, я думал — вот-вот он свалится. Только здесь в темноте заметил, что он был без пенсне. Поэтому его глаза точно сторонились друг друга.
— Я не пойду к тебе. Ты же сама говорила, что если находят евреев, то не щадят тех, кто прячет. Твои родные и так не очень нам рады. Зачем же им еще рисковать. Вот ее отнеси. Авось за нее пощадят — рычал Шер в землю.
Вера подняла сестру и ушла. Она шла медленно, точно собирала цветы.
Когда она скрылась — все свернулось, затихло. Голова моя рвалась, как заводная, все в одну сторону. Вера была еще где-то близко, когда распахнулась калитка. Шер метнулся.
Я не хотел глотать порошка и, ничего не соображая, перемахнул через забор. Поддерживал штаны и бежал, не заботясь о тишине. Когда остановился, прошептал какую-то бессмыслицу, чтобы убедиться, что я могу еще произносить слова. Мне вдруг сразу, как никогда, сильно захотелось есть. Я вспомнил окорок, висевший в столовой на окне.
С трудом перелез еще через один забор с кольями. Я стоял на улице. По ней мы проходили утром. Меня никто не тянул за собой. Перелезая через заборы, я перелез через все, прожитое в этом городе. Я прислушивался к себе. Куда поведут ноги? Они опускались медленно, как сонные ресницы. Я шел к дому, как лошадь, не погоняемая, с опущенными поводьями.
По дороге шли обычные люди. Только громче смеялись, выкрикивали слова. Все они могут ходить — у них на шее настоящие кресты.
Я думал — всюду мостовая, но раньше я ее не замечал. Моя кровать ведь тоже стояла на мостовой. Просыпаясь, слышал — погоняют лошадей. Я прохожу вместе со всеми мимо моей кровати. Они наклоняются над кроватью и сопят.
И я, другой я, в длинных штанах тоже смотрю на этого спящего мальчика. Его надо разбудить. Потянуть за уши. Кто-то толкает ночной горшок, и желтая жидкость течет по ковру — ковер расползается. Я, прежний — я просыпаюсь... Тпру... Но...
У моей кровати стоит мальчишка. На его груди болтается крест. Вставлен в длинные штаны, и голова ходит, словно хочет уйти с плеч.
Я приподнимаю одеяло, и он ложится рядом. Согреваю его, ведь у этого мальчика никого нет.
...Я шел по улице. На глаза мои словно наложены свинцовые примочки. И сквозь них я вижу — в окне коптит лампа. Хочет по дыму подняться кверху. Лампу надо закрутить. Я посмотрел в окно.
На полу лежали, рядом, уткнувшись в землю, люди разного роста. Вытянуты руки, точно они, ложась, держали их по швам. Один из них лежит на спине. Но ведь я же его видел. Я с ним разговаривал. Сейчас он смотрит прямо в потолок. Лицо его закопчено. У его губ что-то застыло, похожее на пенку, снятую с топленого молока. Руки откинуты назад.
Я отошел от окна. Побежал. Меня догонят. Заставят смотреть. Прислонят к стеклу. Я бежал, и предо мной у самого лица весь в дыму качался окорок. Его бедро рассечено. С него стекает подгорелая пенка.
Я выбежал на главную улицу. А что, если узнают?
Авдотья - прачка шла прямо на меня. Она размахивала руками, точно сдирала белье с невидимой веревки. Я видел ее лицо всегда красным, она толкала от себя мыльную пену, в пене лопались и возникали синеющие пузыри. Я видел эту пену у ее рук. Если она дотронется своими руками до меня, я захлебнусь в пене.
Авдотья остановилась у окна аптеки. Залюбовалась белыми ящичками и черной росписью латинских названий. Приняла окно за корыто и стала толкать вперед руки. К Авдотье вышла женщина, та самая, которая мыла в аптеке пузыри и склянки.
Я слышал, как они говорили:
— Слышь, говорю, хоть налей немного.
— Да нету ничего, все казаки забрали.
— Все забрали, а для меня оставили, я у заведующего твово белье стирала, а теперь совесть запить требуется.
— А что у тебя с совестью?
— А ты не попользовалась? Зря! Все лучше, если своим людям добро их досталось. Яков Осиповича нашего-то укокошили. На углу Архангельской так к лежит со своим сынком, обнямшись, у него волосики в крови на голове замоченные. Я вот вещички-то себе кое-какие на память и прибрала. И жалость такая, как кругом налетели, а я все сорочки кружевные искала, так все другим и досталось, жалость какая. Я на них стирала, мне бы на память, так, обнямшись, сердечные и лежат. Ты мне спиртику достань, я тебя кое-чем обделю. Вот власть-то казачья установится... А за мной козак один сватается.!
Я больше не слушал ее. Сознание померкло и потускнело. Не понимал, кто движется — я или дома.
Я обнимаю отца на углу Архангельской улицы? Меня нет в живых?
Но ведь я же стою на углу Московской улицы. Значит, и отец мой не лежит на углу Архангельской.
Я пошел обратно. Шел лечь рядом с отцом.
Отцовские волосы пахли земляникой. Он смачивал их каждый день водичкой, чтобы волосы были черными. Когда же отец забывал и не успевал приготовлять водичку, он становился совсем седым. Я буду гладить вот такие его волосы. А если подойдут, притворюсь мертвым.
На углу Архангельской улицы я не нашел отца. Обходил все углы. На каждом из них — каменная тумба для привязи лошадей.
Углы притворились мертвецами...
...Через двор, с черного хода я пробрался в нашу квартиру.
Будто здесь играли в прятки, и я должен искать папу, маму, сестру. Я ступал по книгам, разметенным по полу. Не натыкался на шкафы и стулья. Они тоже спрятались от меня. Остались только стены. Комнаты были пусты и огромны.
Одна дверь была подчеркнута полоской света. Я приоткрыл ее. На книгах со свечей в руке кто-то сидит. Мне захотелось крикнуть, Вглядываясь, я увидел перед собой совсем ничтожного человечка, мальчишку, такого же, как и я, только очень ушастого.
— Что ты здесь делаешь? — выдавил я из себя, и тогда мне стало очень легко.
Я видел, что он делал. Он выдирал книги из переплетов, надгрызал переплет зубами и разрывал картон.
— Мне жидовские деньги искать велели.
У него на коленях лежал заводной слон. Слона я любил больше всех своих игрушек. Я не ломал его — мне сказали, что жизнь слона означает счастье. Я берег его жизнь. За несколько дней до того, как мать отвела нас к учительнице я искал и не ног найти слона. Лазил под кровати и отодвигал кресла. Потом решил, что, если не буду искать слона, то он найдется сам. Вещи не любят, чтобы их искали, а тем более слон.
— Отдай слона — сказал я жестоко мальчишке.
— Он мой, ты вот себе картинки из книг можешь выдрать. Мальчишка прижал слона. Мой слон издал крик. Он звал меня. Я забыл обо всем. Я видел только слона. Я подпрыгнул к мальчишке, выбил из под него книги. Падение свечи было громко. Хобот в моих руках. Я сжал слона.
— Тебя папка набьет, а ты, как жид, жадный — слышал я голос из темноты.
Я почувствовал в себе силу и обычным шагом вышел из комнаты. Медленнее, чем всегда, сошел с лестницы.
Мы были вдвоем я и слон. Над нами дрожала ночь. Тени легли тяжело и навсегда. Я первый раз ощущал темноту; ее можно трогать руками, залезть, как в банку густого засахаренного вишневого сока. В первый раз был я в такой час — ночью. Очень хотелось есть. И тогда я сразу решил уйти из города. Пойти по большой дороге вместе со слоном.
Буду идти, пока не дойду до поля, где желтеет подсолнух. Меня перевезут на пароме, и я буду палкой отмахиваться от собак. Так подойду к дому своей кормилицы. Стану у окна. Она увидит и выбежит навстречу. Она всегда выбегала, когда мы приезжали к ней. Увидит меня - все поймет и расплачется.
Я проходил мимо дома, где жила Геня. Остановился. Вспомнил, как Вера и Шер смотрели друг на друга. Геня же спит. Во сне у нее вздрагивает верхняя губа. Мы с ней теперь совсем разные. Она будто убежала от меня. И я ее не догонял.
К ним может зайти в дом усатый генерал Мамонтов, и они будут угощать его чаем с вареньем. Я же бросил бы в него чашку, блюдце, вылил бы на него кипящий самовар... Я больше не полезу под диван.
Я стоял под окном. Ждал, вдруг случится чудо, и она позовет меня... Но я все равно, ни за что не пойду. Тусклый свет ночника сочился на меня сквозь кружевную штору... Я уходил из города.
У вокзала толпился народ, как днем за улице. Лезли с ведрами и чанами на цистерны с керосином. Сваливались в цистерны, обливали себя и других керосином. И в воздухе, и по земле был разлит керосин.
И вот я вижу только огни.
Жмурю глаза, и огни притекают ко мне тоненькими полосами. Огни гонятся друг за другом, приседают, изворачиваются, тухнут и снова возникают. Над огнями в некоторых местах огненного круга полощется зарево. Здесь мне холодно. В городе должно быть сейчас очень жарко. Почему я не чувствовал этот жар, когда шел по его улицам?
Я смотрел на город. Там друг над другом протянуты ремни. Ремней не видно, но зато светятся дырки на ремнях. И ремни движутся.
Я вспоминал подробности последних дней. И мне казалось, что казаки расталкивают огни, хватают их пригоршнями и набивают ими карманы и пазуху, как краденным золотом. Огни отскакивают от обнаженных клинков.
А темнота — это окна, в которых коптят лампы, темнота — это выбитые стекла, темнота — это окно нашей квартиры.
Все, кроме слона, осталось вместе с огнями. Но что это все, я не знал, как и тьму, расстилавшуюся впереди.
Пригорок проглотил огни. На дороге затвердела колея, я шел по ней, как по рельсе, боясь оступиться. Только бы идти и не останавливаться.
Проехала лошадь.
— Эй, подсядь! Я шел дальше, как будто это относилось не ко мне. Слышал, как взвился кнут, и телега загрохотала и закачалась, точно хромой побежал вприпрыжку. Не знаю, сколько прошел. Почувствовал, что ноги мои перевязаны бечевкой, бечевка врезается в тело. Если я еще сделаю шаг, упаду. Я свалился в канаву у дороги...
...Меня кто-то дернул. Показалось, что за ночь одеяло сползло. Я протянул руку поднять одеяло. Тогда почувствовал, что кто-то меня держит. Поднял глаза. Шли облака. Они точили свои края друг об друга. Тот, кто держал, не давал мне заглянуть ему в лицо.
— Как ты сюда попал?
Я не отвечал.
— Чей ты?
Я не отвечал.
Он начал трясти меня, а потом отпустил. Я упал. Первое, что увидел, была пика. Она лежала на земле.
На дороге спешились с коней такие же казаки, какие занимали город. Они смотрели за меня. Подъехал главный, без пики. Он не слез. Казалось, хочет смять меня под копытами своей лошади. Он нагнулся и одной рукой втащил к себе на седло. Я вспомнил о порошке. Но, кроме слона, в моих руках ничего не было.
— Ну, а ты, ты за кого — за красных или за белых?
— Ну на, на, убей меня! — прокричал я ему в лицо. Сейчас он взмахнет саблей, и голова покатится по дороге.
— Убить тебя? Зачем же нам тебя убивать! Тебя кто обидел?
— Вы убиваете.
И только тогда я вспомнил, что на мне крест. Таких они не убивают.
— Вы убиваете евреев - закончил я.
— Ну а ты кто?
Он посмотрел мне в глаза так, что я был убежден — он видит все то, что за глубиной зрачков. А потом он посмотрел в глаза слону.
— Я еврей.
— А ты голоден?
— Я, то есть я?
Я прижал слона и почувствовал крест на груди, под ним все горело, как принявшаяся оспа.
— Ты не бойся, пацан. Мы те, да не те. Мы казаки тех казаков сами лупцуем. Ну садись поудобнее. Вот так. Ноги прижми. Ты, это что убежал от них? А все у тебя живы?
Он сам спрашивал, сам будто и отвечал за меня.
— Сестра должно быть жива, а ...
— Ну там на месте разберемся. Ну, хлопцы, обрадовались, сукины дети! Он тронул поводья.
Мы летели вперед. Дорога убегала назад. Кусты нагибались. Я крепко держал слона. Хотелось вцепиться в гриву лошади. Вот-вот полечу вниз, будто под кожей моей оказалась вторая кожа, она шевелится и ползет кругом меня.
Врежемся в город, упадет какая-нибудь стена, все выбегут, все увидят меня впереди.
Утро вылезало медленно, как старая собака из конуры. За пригорком показался город. Огни убраны. Город показался мне выстроенным из необструганных досок.
Въезжая, он замедлил шаг. И даже я выпрямился.
Мы подъехали к человеку, стоявшему на углу. Он, должно быть, только что вышел из дому, тянулся и зевал.
— Ты за белых или за красных?
Он вытянулся еще больше и сразу вдруг присел.
— Ну, конечно, за белых - с облегчением выпалил и отошел на шаг. — За белых — повторил мой казак будто радостно и дернул шнур от кобуры. Лицо его стало совсем другим, точно у него разом заболели все зубы. Он посмотрел на меня, обернулся и кивнул головой другим казакам. Один из них остался с оторопелым, уже совершенно проснувшимся человеком. Он поехал шагом, а человек шел впереди лошади, точно указывал дорогу.
— За белых или за красных — глухо спрашивал, останавливая встречных, мой казак.
Белые казаки ушли из города, оставив у власти городское самоуправление. Люди видели казаков и не знали, как отвечать. Когда же мы въехали на Московскую улицу, город узнал, что он во власти красных казаков.
— С добрым утром, папаша! — сказал мой казак старику. Старик вытянулся, отдал честь и гаркнул на всю улицу:
— Я всегда, с позволения сказать, был за порядочных людей. Старик так и стоял, приложивши руку к голове, когда мы отъехали от него.
Из подвалов и чердаков выбегали измученные люди. Звали к себе. Женщина упала под лошадь. Мой казак оттянул повод.
— Мужа у нее… Коммунист муж ее был — пояснил кто-то из столпившихся.
— А один до сих пор на Пятницкой улице в подвале сидит, небось, с голодухи тоже не выдержал. Замок висит. Сбить невозможно, а на окнах решетка. Когда монополька была, ее туда приварганили. Воров все боялись.
Женщину подняли. Мы помчались.
У подвала толпились, приседали на корточки и смотрели в окна. Казак опустил меня на землю. Нас пропустили вперед.
Подвал был пуст, как выгруженный товарный вагон. У задней стены, спиной к нам, лежал связанный человек. Он лежал неподвижно, вбитый в каменный пол. В окно стучали, барабанили по стеклу. Мой казак ударил по стеклу, как по мячу. Стекло зазвенело.
— Ты перевернись, товарищ — наклонившись к разбитому окну, произнес он, как бы разгоняя все остальные слова и крики. Человек в подвале рывком выбросил ноги, потом застыл. Потом бросил туловище. Опять ноги. Так придвигался к окошку. Повалился сам на себя.
Я увидел его. Схватился рукой за решетку. Наш жилец. На лице его сажей выступили волосы.
— Сволочи, пить, сволочи! — тянул он слова, как на лямках.
— Город-то наш. Сволочей выгнали. Сейчас мы тебя отсюда — кричал ему точно за меня казак.
— Володька, пить принеси! — просил жилец.
Казак плесканул ему в лицо стакан воды. Жилец вытянулся, ловя губами брызги.
— Понимаешь, выгнали. А сейчас и тебя из подвала выгоним. Пришел слесарь с напильником.
Посмотрел на жильца.
— Подождать малость придется, скажи спасибо, что дождался — крикнул он ему и пошел пилить.
Меня кто-то обнял сзади. Я обернулся. Крепко прижимала к себе Авдотья - прачка.
Я не успел вырваться. Она сразу же начала стирать меня.
— Вот радость моя голубоглазая, ангелочек миленький, что случилося, папенька, маменька как ни на есть живы, и сестричку им уж привели, все у доктора Верещагина сидят, у доктора-то спаслися, вот люди хорошие, друг на дружку глядят, по тебе плачут, Володичка ты мой, мальчик хорошенький.
Слова шли из нее, как пар. Она обдала меня радостью и своим тягучим, как репейное масло, запахом.
Я хотел сейчас же побежать к Верещагиным. Забыл о жильце, о том, что он лежит еще связанным. Я держал в руке граненый стакан. Сжал стакан. Он велел мне остаться на месте. И только тогда вспомнил, что нет слона, ни в руках, ни за пазухой.
Я хотел сразу забыть о слоне.
— Живы, все живы! — крикнул жильцу.
В подвале дернули дверь, точно ею дали пощечину стене.
В подвал ворвались. Схватились за веревки. Жилец весь надулся. Веревки оборвались в разных местах. Жилец поднялся.
Все смотрели на него из дверей и через окна, хотели видеть, как он пойдет, ждали, что должен обязательно упасть и готовились поддержать. Он сделал шаг, точно вышел из круга, переступил лежавший у ног невидимый обруч. Он шел, неожиданно для себя.
Все вышли из подвала.
Казак протянул ему руку. В другой руке казака я увидел слона — он мял и душил его пальцами.
— Мы пойдем к нему чай пить, возьми слона — сказал казак.
Мы пошли пить чай к доктору Верещагину.
Обоз красных въезжал в город.
У дверей штаба стоял часовой. Дворники мотали в клубки сорванные и втоптанные в землю телеграфные провода.
На заборах висели еще воззвания к мирному населению, и первый и последний номер газеты "Черноземная мысль" все еще продолжал свой рейд на будке.
«Но эти муки (большевистские муки) почти миновали нас: бывшая русская столица Петроград занята союзными войсками, а наши освободители, донские казаки, идут к сердцу земли русской — к Москве».
У парадного я увидал отца. Он чинил звонок. Схватил меня, перевернул, трогал. Выбежала мать. Вскрикнула, засмеялась. Но смех задрожал, надломился, и она бросилась на меня в слезах. Прижимала к себе. Жильца тоже схватила за руку.
Доктор Верещагин, лечивший за гривенники крестьян (он играл сам с собой в шахматы. Часто пациенты смотрели в стеклянную перегородку, и все дожидались, пока доктор перестанет в бирюльки играть) вышел на лестницу и назвал нас всех "голубчиками".
В комнате казак расстегнул ремни, бросил саблю и кобуру на диван. Смотрел на стены. Ему понравился обезьяний череп на столе доктора.
— Курить можно? — спросил он и поставил около себя пепельницу-череп.
Мы пили чай с вареньем и лепешками. Я держал блюдце на вытянутых пальцах. Я выплеснул чай на скатерть. Голова закачалась.
Я схватил ее руками, но она дергалась через ровные промежутки. Я заметил, что мне положили варенья больше, чем сестре, чем всегда.
У нас не было жилища, постелей, не было во что переодеться.
В длинной женской рубахе я спал на диване в гостиной доктора, вместе с жильцом. Засыпая, видел его большие ноги и пальцы, похожие на костяные бабки.
Документ из библиотеки журнала СКЕПСИССообщение члена Еврейской общественной комиссии помощи погромленным в г. Козлове Тамбовской губ. И. Рудова Московской еврейской общине о погроме в городе казачьими частями корпуса генерала К.К. Мамонтова 23—24 августа 1919 г. Троцкий был до последнего дня и обещал, что Козлов не будет отдан, но, увы.... Три дня бомбардировали Козлов, и 23-го он пал. В 4 час. дня 23-го вошли озверелые казаки. Раздался звон колоколов и крики «ура», и под звон колоколов сейчас же начался погром, полный ужасов и еврейской трагедии. В то время, когда шла по улице торговля награбленного из отдела снабжения, здесь же лилась еврейская кровь и валялись трупы. По непроверенным слухам, были специальные дома, где угощали казаков водкой и их угощали [Так в документе.]. 24-го утром явились крестьяне из соседних деревень и грабили вместе с городской чернью. Участвовали также некоторые из интеллигентов, кулачества, но не все.
|
Днем мне было стыдно ходить по улице. Стыдно, что остался жив, что не выкололи глаза, что совершенно здоров, если не считать только головы, не подчинявшейся мне. Мало осталось в городе еврейских семейств, где не лежал бы на полу покрытый черным труп.
Живые сторонились и себя, и зданий, хотели не плакать и поэтому боялись смотреть друг другу в глаза.
Братскую могилу рыли два дня и ночь между ними. Рыли не так, как могильщики.
Во время погрома казаки искали в склепах спрятавшихся евреев. Они нашли кладбищенского сторожа и могильщиков. Казаки ходили по кладбищу и тыкали пальцем в надгробные камни, по мраморном плитам угадывали богатство родственников. В конторе на бумажках и ладонях записали их фамилии.
Сторожа повесили на кладбищенской ограде. Он так и остался висеть до прихода красных. Последние дни шли дожди. Земля на кладбище была жирной. Мой дядя, изобретатель ваксы, и уцелевший Мишка Гордон садовыми лопатами рыли могилу.
— Что вам жалко еще аршин глубины — говорил мой дядя, надавливая на ребро лопаты.
На похоронах я не был. Мне не позволил доктор Верещагин. Я сидел целый день в гостиной среди ожидающих. Но очередь моя никак не приходила. Потом я вышел на улицу. Видел, как играли в палочку - стукалочку. Играла и Геня. На ней новое платье. Ее волосы заплетены в косички, они висят, как тоненькие палочки, и бьются друг о друга, когда она выбегает. Я забрался в лопухи, чтобы меня никто не видел. Положил голову на локоть и смотрел на трубу табачной фабрики.
Сон придавил, — упала труба. Мне не снился сон, но я чувствовал себя, как во сне. Казалось, что расту — растягивается тело, вытягиваются ноги.
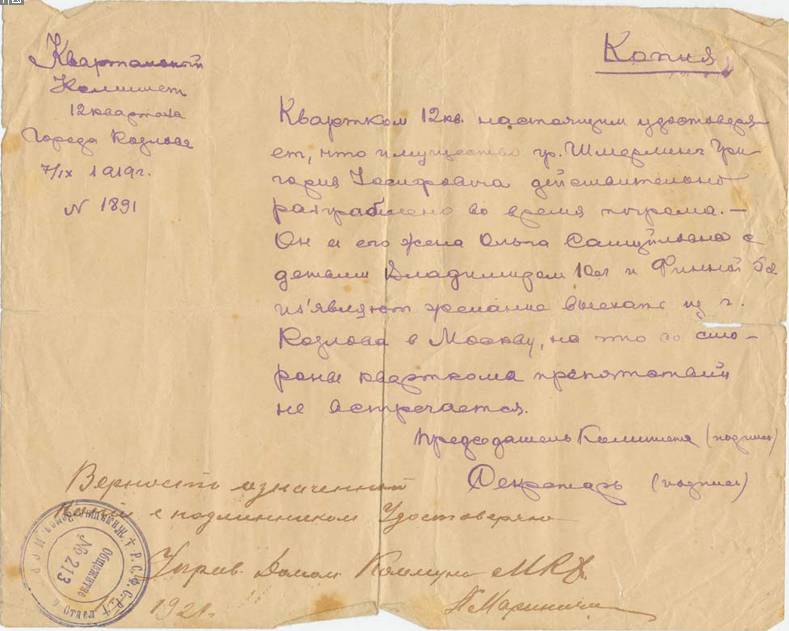
...Осенью 1919 года мы шли по темноте и попрыскивающей слякоти на вокзал.
Поносистый ветер вырывался будто из хрипевших глоток и отрывисто рвал ставни. Мы бежали так же быстро, как по мосту у Торнео.
На вокзале горели керосиновые лампы.
Огни на путях вздрагивали и шли на дно темноты. Рельсы двигались — и все в разные стороны. Рельс было очень много, они катились навстречу, как сталкиваемые бревна. Так мы добрались до товарного вагона.
Горела свеча. На корзинах и матрацах лежали наши знакомые. Мы заняли свой угол в вагоне. Рядом с нами у мешка сидел отец Шуры Ряшанского. Он засыпал и покачивался, будто молился в синагоге. Его щеки втягивались, когда он вдыхал. Ноги разъехались, точно скатился с откоса.
Вагон всю ночь переводили на разные пути. На рассвете я все еще видел сигнальную будку. Разноцветные огни фонарей выплывали из глубины. Их тушило не очнувшееся, простуженное утро. Я заметил, что лицо мое покрыто угольной пылью. В вагоне пахло людьми и углем.
Закачало. Качались Ряшанский, колеса, плохо составленные доски. Состав часто останавливался в степи. Вылезали из вагонов. Разводили костры, жарили картошку. На остановках мешочники ломились в вагон, их не пускали, они лезли на крыши.
На одной станции к дверям приставили дощатый настил. Нас всех откинули к одной половине вагона. Ввели белого коня, на нем разбрызганы серые кляксы. Место для коня отгородили доской.
Я не мог ударить ногой об пол вагона, как конь. Со всех сторон был защемлен мешками, людьми.
Поезд шел так, что хотелось выбросить затекшие ноги и бежать.
Ряшанский сидел, завернутый в шелковый талас. От бахромы по всему таласу расползлась чернота, как по талому снегу. Ряшанский измарал талас в угольном пыли. Одной ногой я упирался ему в колено. Ряшанский шевелил губами, разговаривал сам с собой, и, когда он громко на всю теплушку заглотал слова, еще громче заговорила крыша. Она гнулась под тяжестью человеческих пудов. Будто по крыше шел другой поезд.
Вот-вот развалится вагон. Он качался, как гамак.
Доска, отделявшая нас от коня, грохнула. Конь заржал и переступил доску крупным шагом.
Мне казалось, что он отряхнет свое копыто на полусогнутую спину Ряшанского. Но конь надломил передние ноги и встал перед стариком на колени. Он склонил голову на бок, точно смотрел в потолок.
Из вагонов начали кричать. Поезд остановили. Крыша же будто все еще продолжала движение.
Кого-то скинули с крыши, — так мальчишки на дворах, видел я, бросали котят об стену. Когда же на паровозе установили пулемет, все с крыш поскакали на землю.
И снова зашатались и конь, и Ряшанский. Конь ржал. Ему стало легко, будто это с него спешились, И он почувствовал гриву, взвеянную рассеченным воздухом у паровоза. Ряшанский смотрел на коня, как на внука. В вагоне он стал коневодом. Когда конь спал, он хотел заставить колеса бежать на цыпочках. Ряшанский не знал, как ухаживать за конем. Он достал монпансье из банки и протянул их ему на ладони. Протягивая ладонь, он все же отодвинулся сам.
После последней за день молитвы старик снял талес. Он накрыл им коня, как попоной.
***

… В Москве я все смотрел вверх. Высокие дома с двух сторон улицы наклонялись друг над другом и держали небо над собой как в клещах.
Мои недавние сухие и раскаленные дворы и бумажные змеи, уносимые ветром, показались безвозвратными. И, когда в первые дни, переходя площадь, меня крепко держали за руку - я все равно ощущал себя потерянным.
Только памятники я хотел перенести к нам в город. Пушкина я бы поставил на площади. Он шел бы мне навстречу. Гоголь среди лопухов зябнул бы у нас в саду.
В Москве я и сестра заболели испанкой и потом корью. Мы горели с ней на одной кровати. Над нами сугробом лежали одеяла, тряпки. Наше дыхание было видно. В комнате в стаканах замерзала вода.
В бреду я гнался за попрыгунчиками. Про попрыгунчиков говорили, что они прыгают с ходуль на прохожих, накидывая на них белые простыни. Попрыгунчиками наполнен город. Они и прыгают оттого, что здесь так много высоких домов. Попрыгунчики как бы выпрыгивали из казаков, казаки из попрыгунчиков. Они выбрасывают языки, как нагайки, и лижут ими ирис в коробках у «лизунчиков» на Сухаревке.
Отец мой днями искал трубы для печки.
Красные курсанты в те дни шли по льду на Кронштадт. Под Москвой на станции Химки жил я в колонии для детей, пострадавших от погромов. У всех нас были ракетки, теннисные мячи, биллиардные кии. Мы растащили их по колонки вместе с книгами в переплетах из крокодиловой кожи с золотым тиснением.
Мы били хрустальные бокалы, как перегоревшие электрические лампочки. Из бостона и шелка вырезали зубцы и обвешивали ими стены, как кухонные полки. Биллиард превратили в пароход. Вышку над дачей — в капитанскую будку.
В сосновом парке и в подвалах разыскивали клады, которые должен был обязательно закопать Казалет — главный управляющий Мюр и Мюрелиза. Мы терзали домашний очаг управляющего универсальной фирмой.
Американцы кормили нас сгущенным молоком. На этой густой сладости мы росли. Американцы требовали, чтобы ежемесячно нас взвешивали и отмеряли рост. В Химках моя голова перестала трястись, и меня вернули в Москву.
За два фунта соли мне купили огромную гимназическую шинель. Полы не обрезали, на случай, если я подрасту. Я подбирал полы, шинель была куда тяжелее полена. Ежедневно нужно было приносить в школу полено. Мы несли их под мышкой вместе с пеналом и тетрадями.
Половина группы отправлялась в районную кухню за обедом. Мы волокли на себе чаны, расплескивая по улицам чечевичную похлебку. Другая половина изучала в это время заливы и проливы.
— Нет ли пороху? — писал мне на уроках записки Андрюша Трапезников. Нет, отвечал я. Андрюша Трапезников приносил в школу жженную пробку и марки Аргентины и Мадагаскара. Во время занятий мы меняли марки, а после Трапезников крался к чанам и сыпал в чечевицу жженую пробку.
Летом по асфальтовой части мостовой на Гоголевском бульваре мы носились на роликах среди велосипедистов. На асфальте было тесно, как на катке. На полном разгоне сталкивались, падали и колеса роликов остервенело вращались. Асфальт сдирал кожу и жег запекшиеся серые распластанные раны. Мы приклеивали к ним плевком газетную бумагу и снова носились, разбрасывая в сторону скрипучие ноги.
На Никитской площади все лето разбирали развалины дома, снесенного в октябрьском бою. На грудах кирпича дрались арбатские и никитские огольцы. На Никитской площади сдернули покрывало с плоскогрудого Тимирязева. В Москве на бульварах, между памятниками Пушкина и Гоголя стал я юношей.
-------
В фойе, среди плакатов и разрезных моделей, у окна как-то обособленно стоит койка, ее плотно облегает коричневатое байковое одеяло.
Все мы — плотники, резинщики, инженеры, парикмахеры, счетоводы и грузчики по разному мысленно вытягиваемся на этой койке. Ее нельзя трогать руками. Здесь она, как экспонат. Такие же койки ждут нас не в фойе, а в ротах. Сейчас мы ждем, чтобы узнать, кто и где, какую займет койку.
Играем в шахматы и поддавки. Удим бутылки, укладывая кольца на горлышки. Задаем друг другу вопросы и в ответах узнаем основное направление жизни каждого до этого призывного дня. Многие скучают, точно ждут поезда, некоторые торопятся, в их движениях неотложность, точно они имеют право на телеграмму вне очереди со словом "уборочная".
В открытую дверь вижу: нависший ярус выдвинулся в пустоту зрительного зала. Книзу пригнулись кресла. В их одинаковых полированных, точно отсвечивающихся лысинах, сиденьях — незыблемость и покой. В открытые двери дневной свет устремляется снопами, они прорезают застывшую огромность, ее поддерживают ярусы и замыкают стены, спадающие, как занавес, по бокам. В таком опрокинутом куполе немыслимо одиночество. Телу трудно оказать сопротивление воздуху. Человек пропадет и растворится.
Сюда надо врываться всем вместе, и именно врываются при первом звонке, попирают, заполняют, превращают в уплотненное жилище, номерованные места. Тогда кажется, что здесь и тесно, и замкнуто, и как-то подтверждающе вступают трещотки вентиляторов.
Выкликают мою фамилию. Она показалась какой-то чужой.
Я вылезаю из брюк. Падают кальсоны. Ноготь на мизинце взъерошен. Я иду босиком. Кажется, что за дверью обдаст сухой пар. Но я без веника. Вместо него в руке листок с отметками роста и веса. Иду так, точно снова появляюсь на свет, но уже выросший и обросший волосами. Гусинеет кожа. Отворяю дверь, словно не вхожу, а отрываю ноги от вышки и с высоты ныряю в комнату. Дохожу до меловой черты, проведенной по полу, и упираюсь в нее большими пальцами.
За столом - военные и штатские. Взвешивают глазами. Стою перед ними, чувствуя подошвы ног. Они рассматривают меня и мою жизнь. По-деловому перелистывают бумаги, перешептываются, как народные заседатели.
Я называю город, в котором рожден.
Меня не спрашивают, был ли я в царской или белой армии.
Я дышу. Ребра приподнимаются кверху. Развожу руки, точно разрезаю воду.
Слушают пульс. Кожица у ладони сквозит жилками. Я слышу их жилобой, потоки крови проталкиваются, вливаются и стекают.
Закрываю глаза. И в темноте вижу возникающие бесконечные выбеленные снегом поля. Вытягиваю руки в стороны. Пальцы вместе. Ладони лежат на ровных плечах воздуха. И, когда открываю глаза, кажется, что я уж очень давно в этой огромной, как бассейн, комнате. На стуле рассыпаны разноцветные лоскутья и пышные шелковые моточки. Мир мне не кажется гравюрой, отпечатанной черной краской.' В глаза падают световые волны, оранжевые и голубые, и фиолетовое я называю фиолетовым.
Белый солнечный свет озорно льется в бассейн.
У доктора зажимы очков в оправе краснеющих полос на переносице. Как пламя свечи, золотой зуб у военкома. Мне шепчут — шипучие звуки увертываются, но я достигаю их и слышу почти не произнесенные, намеченные шорохом слова. Я смотрю на стену как вдаль и читаю мельчайшие сдавленные буквы и цифры.
Нажимом пальца чертят мне грудь. Передают друг другу. Я поднимаю руки, кладу колено на колено, стараюсь не дышать. И снова стою у черты, выверенный, выслушанный, годный. Я здоров.
Среди сидящих за столом нет старой резинщицы, у которой сыновья пришли и не пришли с фронта. Пусть девушки и матери видели бы и призывали нас, сменяющих друг друга у черты, годных, здоровых, мускулистых, упитанных, худощавых и хорошо во весь разворот груди дышащих.
— Где хотите служить? — спрашивает комиссар.
— Я хочу служить, где хочу служить? ...Служить... Я неожиданно оглушаю себя:
— Хочу служить в Краснознаменной дивизии. Она родилась на Днестровских берегах. Я знаю ее традиции. Над ней шефствуют бессарабцы, там и полки называются Приднестровским, Бессарабским. Я говорил сбивчато.
— Да, есть такая дивизия, дивизия ничего себе, про Захарова Ваньку не слыхали, полком командовал. Можете идти. Да. — оборвал комиссар.
Он все это говорил не мне, а как будто разным людям.
У черты становится другой.
Я поднимаю голову, чтобы разглядеть его лицо.
— А мне бы в авиацию, товарищ комиссар — говорит он сам, не дожидаясь вопроса.
Красноармейцем выхожу из комнаты.
— Ну как? — спрашивают.
— Вот так — отвечаю.
Писарь из комиссариата выкликает фамилии и, вручая билет, добавляет: «В команду номер четыре», «До особого распоряжения», «В связь», «В терчасть», «Снять с учета».
И вот слышу полное имя и отчество моей дивизии.
— Это мне!
Все мы — плотники, резинщики, инженеры, парикмахеры, счетоводы и грузчики выходим из клуба, расходимся, ждем трамваев — новиками военной службы — саперами, территориальщиками, танкистами, моряками, пехотинцами.
В газетах в подверстке пишут о том, что мы бодры. Нас снимают смеющимися.
Клуб «Каучук» я видел еще в лесах, помню, как бетонировали его стены. Медленно схожу по широким ступеням лестницы. Мы идем по улицам в пальто и куртках. Ребята идут на заводы в последние разы обтачивать, строгать, чертить. Ребята придут в общежития и к себе в семьи, возьмут на руки младенцев, расскажут девушкам, и они обнимут ласковее — памятнее будут прикосновения.
Погрустят разлукой, других заволнует предчувствие нового, а третьи загуляют проводно, принимая расчет штатской молодости. Другие уже ступают горделивей и осанистей, как бы позвякивают воображаемыми шпорами. Правильные и четкие придут на сборные пункты, как к табелю.
В трамвае я держусь за ремень. Деревья на Девичьем поле замены осенью. На остановке в вагон ломятся студенты. Меня толкают, а я не могу даже огрызнуться. Я взволнованней, чем недавно, когда врач молоточком ударял по коленной чашке.
Охлынули мысли. Ведь и здесь в трамвае сколько отслуживших, отвоевавших. Все они при случае говорят: — Это когда я еще в армии не служил, это до армии. Все они говорят: — Это я после армии, это когда отслужил.
А москвичи, они ведь тоже пополняли в те годы дивизию, в которую я призван. Но как все они чувствовали себя в трамвае в такой день — призывной, осенний, солнечный.
Эх! Послать бы телеграмму! И я выстукиваю ее, держась за ремень, телеграмму хотя бы моему другу, собеседнику, свиноводу, бойцу, раколову — Кальке.
Трамвай рвется с остановок. Вагоновожатый — женщина. Вижу только её затылок.
У двери, прижимая к себе огромные книги, сидит слепой. Голова чуть запрокинута. Она везет менять осязаемые книги в библиотеку для слепых. Я держу его за рукав. Медленно сходим со ступенек. Вагоновожатая откинулась от мотора, сходит взглядом вместе со слепым с каждой ступеньки.
Я веду его через площадь. Он ставит ногу на тротуар. По настоящему удивлялся, когда я ему на прощанье так долго и крепко жал руку.
В этот час возвращаются в квартиры службисты. Автомобили наступают друг другу на пятки. Я один из толпы. Мой шаг — незаметная часть движения. Сегодня мои шаги получили другое направление. Каждый шаг ответственней.
И хотя я здесь и не могу уйти с улиц, точно тянется за мной растягиваемая с каждым шагом неразрываемая пуповина, я уж не в этой толпе.
Мы идем — сверстники — широким строем, во всю ширину хотя бы этой улицы, мимо посольских особняков.
Мы идем, шаг размерен, и сумятица перебегающих перекрестки соподчинена нашей поступи. Люди бегут, кривят каблуки, натирают мозоли, сбивают набойки, прикуривают, окликают, читают на ходу книги и газеты, держат их в руках, как на пюпитрах, натыкаются на прохожих и за это на них злятся.
Если бы жизнь замерла на секунду. Ноги застыли, поднятыми или согнутыми. Не опустились бы взметенные молоты. А через секунды все бы опять завертелось и зашагало.
Я как бы смотрю с высоты. Все то, в чем внизу было трудно разобраться, отсюда закономерно движется потоками людей и машин. Если бы было дано все одновременное видеть одновременно, как заголовки газетного разворота. Я вижу необъятные площадки простора.
…На возвышении стынет тело Директора Сталинградского Тракторного товарища Михайлова.
... Первый трактор Харьковского Тракторного появился у входа в конвейер.
... Оратор говорит о суховеях, о более устойчивых сортах пшеницы с сокращенным вегетационным периодом на конференции по борьбе с засухой.
... В Ободовке Калька грузит на подводы шипящие ящики.
Сейчас семнадцать часов. Я иду по делам. Нужно успеть переговорить с тем-то. Записать адрес. Обещают не забывать. Дают совет взять больше тряпок для чистки оружия, а то — предупреждают — в горячее время разорву рубашку.
Покупаю новую зубную щетку. Толкаю гривенник в автомат.
Девятнадцатый час. Где они и какой работой заняты, люди, оставленные на маршрутах еще не пройденного 1931-го года...
В марте этого года на станции Раз-Карлан-Юрт высадились двое навстречу весне. Я и Шукштуль. Шукштуля трест назначил директором
совхоза. Дожденосные тучевые дни отрезали станцию от совхоза.
Лошадей не было. Взвалили на себя поклажу, веревками привязали галоши. Вытаскивали ноги, как из топи, или же шли по пояс в густой жиже. Грязь пузырилась, мы барахтались вымокшие и жирные липнущей чернотой.
Шукштуль гнулся от боли в животе. Вот-вот не выдержит, упадет и захлебнется. Земля не запиралась горизонтом. Кругом, как берега, виднелись затушеванные серостью горы, они сползали на нас потоками грязи. В ночь добрались до бараков и гессенских палаток совхоза. Рядом кричали по-ребячьи, протяжно и больно. Это шакалы с темнотой подобрались к совхозу.
Толкнули фанерную дверь. Журчал храп. Шукштуль в темноте свалился на койку. Он ерзал и этим сам же выжимал и выкручивал себя.
— Это что за чуча, худая снасть, отдохнуть не даст — бурчал проснувшийся, ощутивший влагу, стекавшую со шукштулевской одежды, человек.
— Это — я, Шукштуль.
— Ты мне, штука, сапогами своими…
— Я Шукштуль, директор.
— Директор? У нас директор сбежал.
Человек поднялся с койки и зажег рыжий свет фонаря.
Он был одет — спал, не раздеваясь. Долго влезал в промокшие сапоги.
— Так, значит, новый директор? А то до вас был, так тот сбежал. Тут одни только вахлаки живут. Бухгалтер! Довольно спать, директор новый приехал, промок весь, я и представиться позапамятовал. Подчиненный ваш, заведующий третьим участком. Николай Спиридонович! Хорошую жизнь проспишь. Он — глухой бухгалтер у нас, — объяснял и будил спящего заведующий третьим участком.
— Бухгалтер наш труд любит, только заснул недавно, все сидел, подсчитывал. Одну бухгалтерию ведет, так сказать, как начальство сбежавшее приказало, а другую по ночам правильную, на случай, если понадобится кому представить. Николай Спиридонович! За книгами правильными люди приехали.
Глухой человек спал крепко, в один дух, просыпался он медленно, а когда скинул сон, смотрел на нас ошарашено, точно увидел водяных с зелеными бородами, вылезших из омута.
Мы сидели в подштанниках. Я тер Шукштулеву спину концом одеяла.
Зав. участком исчез, как он сказал, за медикаментами.
Бухгалтер протянул мне полотенце.
Зав. участком принес еду. За ним ввалились заспанные люди.
Они рассказывали. Мы сохли...
Земля — долина среди гор — с буйной силой питает буйные заросли. Пять тысяч га нетронутого бурьяна. Дагестанское солнце с московских прилавков. Сорок миллионов килограмм овощей. Парниковые рамы должны были прибыть не позднее десятого февраля. Сегодня еще нет рам. Сегодня, возможно, придут рамы, возможно, и не придут.
Рабочих не хватает. Вербовщики ушли в горы. Директор сбежал. Нет питьевой воды.
Для автомобилей нужны цепи. Семена приготовлены.
Я слушал, потом же точно кто накинул на голову мешок, и все оборвалось. Потерял себя. Когда же почувствовал тяжесть головы на ладонях, сон был перекручен.
Шукштуль чертил квадрат на блокноте. Каждому дал он задание на наступающий день.
— А вот книги днем посмотрим — сказал он бухгалтеру, забывши про его глухоту.
— А иноземцевы капли раздобыть-то здесь можно?
Утром у совхозной конторы собрались горцы. У каждого старика кинжал, у каждого мальчишки кинжал. Плясали и играли в дудку. Так полагается первые дни на новом месте. Секретарь рабочкома уговаривал работать, не считаясь с часами. Вышел старик, объяснил: у горца голова от работы расширяется, если шнурок на голове не сходится, больше работать нельзя. Шнурки не сходились.
— Вот вы директор новый будете. — позвали Шукштуля.
С водой познакомьтесь, пить невозможно, завербовали нас, а о воде не сказали, расчет просим.
Шукштуль зачерпнул кружку. В воде кувыркались крохотные головастики. Зелеными нитями тянулся лягушачий шелк. Шукштуль пил, не отрываясь к не морщась.
— Не так, чтоб уж очень, но пить можно.
Этой весной мы разучились спать. Днем и ночью возили стекло и рамы. Мы дежурили на станции, добивались в Махач-Кале людей, денег, труб. Даже мысли стали телеграммными.
С Украины приехали трактористы. На вечере смычки плясали гопак и лезгинку. Гопак был в диковинку. Ноги танцора не касались земли. Он был быстр, как заверть. Слишком хорошо плясал человек с Украины. А через час... его теплый труп (и казалось, что вот-вот он снова пустится в пляску) внесли в барак. Кинжалом за пляску.
... Сейчас может быть к Москве со станции Раз-Калан-Юрт, с юга на север идет поезд с овощами. Недавно я читал рапорт, подписанный Шукштулем. Он снял два урожая. Заложил сады.
Я вспоминаю бухгалтера, будто он со мной рядом идет по Москве. Все протягивает лохматое полотенце.
... На пристани отходит пароход. Он уходит с запозданием. Нет пассажиров и провожающих. Грузчики сняли рукавицы и не смотрят ему вслед.
Может быть, пароход отправляется в последний рейс? Москва-река течёт тяжело. Огни не плывут по ряби. Расступились дома. Все они, как корабли, заснувшие в затоне, как тихоокеанские экспрессы, приставшие к речной пристани — качается фонарь, скрипят уключины.
Кое-кто из прохожих останавливается у решетки, смотрит на воду, как в опрокинутое небо, в темную недышащую воду.
По Кремлевской стене треугольники света от фонарей уходят в землю, свисают как шторы.
На ночь наложены выпуклые тускловатые краски. Разнообразный и диковинный, выросший из глубины, сдвинул свои купола Василий Блаженный.
Свет льется на площадь.
Она лежит, бесконечная и законченная в своих границах.
У пылающего и никогда не сгорающего флага — дирижер.
Передвинулись часовые стрелки.
Ударили литавры. Возник звон, раскололся на дробь, и строго и торжественно замер.
Прошуршала шинами, как платьем, машина. Залилась сирена. Но в основном дирижер управляет тишиной, заполнившей площадь. Если вслушаться в тишину, в приливы и отливы ее призвуков, она звучит, как орган.
В размах тишины ворвались голоса.
Они идут под руку и отдельно, посередине площади, в бархатных штанах, в беретах. Ярки серебряные туфли негритянки. Будто туфли сами быстро-быстро идут по площади. Среди них много пожилых. Высокий впереди себя ставит трость. Он идет вкось, прямо и опять вкось.
Низенький в очень широкой шляпе и квадратных штанах несет палку сзади себя. Замыкает шествие. Так ему должно быть легче идти и думать. Интуристы идут в гостиницу. Они обступили Василия Блаженного. Древность требует дани и еще восклицаний.
Я стою и смотрю на мрамор, на его силу и завершенность. Если сделать несколько шагов, то вслед по черным и коричневым массивам побежит полоскою свет.
Не заметил, как на середине площади появились другие люди. Они стегают брусчатку водяными бичами, струи пересекают друг друга, поворачиваются; когда брандспойт пускается ниже, струи шипят и разбрызгиваются широко, похожие на павлиний хвост.
Блестит мокрая чернота, будто площадь натерли бархотками все московские ассирийцы.
По черноте разбежались люди в черной коже и касках. Взяли винтовки к ноге и застыли, как пихты и ели у стены. Я различаю линию флажков. В блеске электрических фонарей выплыли из темноты, бесшумно подкатили к белым ступеням трибун лимузины. Военные перебегают площадь. Мне не слышно слов команд и распоряжений. И я, и дирижер вытянулись и привстали на носки.
Натиском двинулся отчеканенный грохот.
Первые танки взобрались на площадь, волоча за собой невидимые тяжести.
Часы бьют через ровные промежутки, вступают, как солист, в механически точные, отчетливо выбиваемые пласты звучаний, повисших в воздухе.
Один из танков остановился, точно врос. Командиры бегут и бросают слова танкистам вдогонку и навстречу.
Нас немного — прохожих. Видим подготовку к параду.
Они пронесутся, танкетки, через несколько дней по этой же площади. Тогда иначе будут распределены краски. Будет утро. Будет бить большой барабан. Звякнет марш. Вся музыка запоет.
 А могу ли я сейчас стоять на площади? Ко мне могут подойти и спросить, кто я такой и зачем смотрю. Ведь не полезу же я в бумажник и покажу —
смотрите — я должен через несколько дней оставить Москву, чтоб встать в строй, что и я, может быть, скоро буду линейным и побегу по площади.
А могу ли я сейчас стоять на площади? Ко мне могут подойти и спросить, кто я такой и зачем смотрю. Ведь не полезу же я в бумажник и покажу —
смотрите — я должен через несколько дней оставить Москву, чтоб встать в строй, что и я, может быть, скоро буду линейным и побегу по площади.
Но ко мне никто не подходит. Они всего на год старше меня, мои линейные. В 1914 году им было по шести, а мне пять, в 17-м по девять, а мне — восемь. Мы вместе, хотя сейчас так по-разному уходим с площади.
На улице Фрунзе у Реввоенсовета белые колонны, как часовые. Об одном кабинете этого здания недавно иностранец сообщал по телеграфу:
«Миниатюрные аэропланы, бомбометы, орудия и орудийные лафеты, модели гранат, статуэтки красноармейцев из бронзы стоят там за шкафах и письменном столе. В кабинете за столом — подвижной, здоровый, средних лет военный, с проседью в волосах, со светлыми тонкими устами, военный револьвер около его локтя у письменного прибора».
Бронзовые красноармейцы, устремляющиеся в атаку, рвутся в ночной бой, стынут в просторе кабинета наркома. Должно быть, там на стене карта мира и страны.
Блестит асфальт, особенно там, где свет воронками делает его совсем белым и растекающимся. Рельсы по Арбату текут, как из ртути.
А дальше от Брянки другие рельсы. Передаточные пути. Горячие паровозы из депо готовы понестись в разные стороны.
Один из них несколько лет тому назад увез меня в первый отъезд из Москвы к Днестровским берегам, и сколько раз после я расставался с Москвой под огромным, как эллинг, Брянским дебаркадером.
Я ещё здесь, не на перроне, но уже сам провожаю себя.
Я уезжаю в Красную Армию.
Паровоз тонет в собственной дыме, и дым реющим облаком виснет в высоте дебаркадера и плывет навстречу огням прожекторов.
Уходит поезд, и перед провожающими исчезают три воспаленных сигнальных глаза на последнем вагоне.