 Владимир Шмерлинг
Владимир Шмерлинг Владимир Шмерлинг
Владимир ШмерлингГосударственное издательство детской литературы
Министерства просвещения РСФСР
Москва 1959
Еще гремела битва, когда в окопах и блиндажах у берегов Волги советские воины находили и спасали детей — невольных свидетелей исторического Сталинградского сражения.
Сын сталевара и сам сталевар, герой этой повести, Гена Соколов, вспоминает о том, что видел и пережил в дни Великой Отечественной войны... Мальчик был рядом с отважной разведчицей-комсомолкой Шурой, когда она выполняла опасные задания на родной земле, захваченной врагом.
В повести «Дети Ивана Соколова» рассказывается о том, как Гена потерял и нашел сестру Олю, как к его другу Сергею вернулась памяти Книга повествует о простых и сердечных людях, которые помогли детям Сталинграда найти свое место в жизни.
В последний раз отец пришел, когда мы только сели за стол. Мама держала полную до краев разливную ложку. Она вздрогнула и вылила суп обратно в кастрюлю. — Что, не ждали? — засмеялся отец. — Нет, ждали, ждали! — закричали мы с Олей, вылезая из-за стола. Отец приподнял Олю. Она, как всегда в таких случаях, зажмурилась — знала, что сейчас полетит под самый потолок. И вот она уже на полу, держится ручонкой за папин сапог. Мама поставила тарелку отцу и сказала, будто скомандовала: — По местам! Из тарелок идет пар. Оля важничает, дует на ложку, а мне уже не до еды, лишь бы вволю наговориться с отцом. Что суп! Едим мы его каждый день, а то и два раза в день, а вот отец так редко стал бывать дома. Уже давно мы не сидели все вместе за одним столом. Казалось, отец только что пришел из бани, выбритый и гладенький. На нем все новое: зеленая гимнастерка и блестящий ремень без морщинок. В углу, куда отец кидал обычно после бани мокрый веник, теперь лежит новый мешок, тоже зеленого цвета. У самого мешка отец поставил винтовку, прислонив ее к стене. — Только смотри не подходи и не трогай, — слов но читая мои мысли, сказала мама. —Я ему сам все покажу. Все приемы штыкового боя, — заманчиво произнес отец, ткнул в меня вилкой и тут же добавил: — Он у нас, Гена, сам как штык! Тут пришла и моя очередь вступить в разговор: — Я, папа, взаправдашнего Буденного видел, на машине, он мимо нашего дома проезжал. — А может быть, обознался? — Не обознался я, папа. По усам узнать можно, а я не только усы видел, но и звезды маршальские. Другого такого нет на свете. И не в музее видел на картинке, а у самого нашего дома. — Верно, Гена, Семен Михайлович здесь, — ска зал отец и задумался; потом быстро встал, достал из зеленого мешка пребольшой арбуз и в тишине, так что слышно было, как под ножом хрустела корочка, раз резал его пополам. Оля выковыривала из своего куска черненькие семечки. Раз попался ей арбуз, она его по-своему раскромсает. Мать стала собирать отца в дорогу. На дворе жара, а она положила в зеленый мешок шерстяные носки... Отец достал из шкафа пачку фотографий и рассматривал их одну за другой. — Вот какие мы с тобой девять лет тому назад были. И жили без Генки и Оли. Как мы без них жить могли! — сказал он маме и отобрал самые маленькие фотографии, положил их в партбилет, под блестящую бумажку, которой всегда обвертывал свою драгоцен ную книжечку. Он отстегнул от цепочки новые наградные часы с надписью на крышке, а вместо них взял с комода старинные дедушкины, которые мы называли «цилиндр». Потом передал маме какие-то бумаги и напомнил, чтобы она приготовила мешки для капусты и отнесла их на завод. Папа несколько раз прошелся по комнате, подошел к маме и что-то сказал ей совсем тихо. Оля-долгоешка никак не могла справиться с арбузом. Так с куском арбуза посадила ее мама на диван, сама с папой села рядышком и меня к себе пододвинула. Отец поднялся первым, поцеловал Олю, и она потянулась к нему, прикоснулась сладкими губами к его щеке и тут же снова принялась за арбуз. Папа несколько раз провел рукой по моей стриженой голове. Меня тогда постригли под машинку номер нуль в парикмахерской у Тещиной остановки. — Колючий ты мой новобранец, — сказал отец. — А как же штыковой бой? — напомнил я ему. — В следующий раз, — сказал отец, прижал меня к себе и поцеловал. Он медленно затянул ремешок каски, взял винтовку. Мешок подняла мама. Я тоже кинулся к дверям. Но мама сказала, чтобы я остался дома с Олей да прибрал арбузные корки В последнее время всегда так бывало: мама уйдет, а мне смотреть за Олей. Папа и мама ушли. И почти на том самом месте, где пронесся мимо меня на автомобиле маршал Буденный, я увидел отца с винтовкой и руку мамы за его спиной. Скоро уже пятнадцать лет с того дня, но, когда я рассказываю теперь об этом, мне словно и вспоминать не приходится, так все это навсегда запомнилось, до каждой мельчайшей черточки. Будто снова мне восемь лет. Как хотелось мне тогда догнать отца и тоже обнять его! Но я не мог оставить Олю одну. Она совала в рот своей куклы арбузные семечки. Про Буденного-то я рассказал, а про то, как видел матросов, забыл. Их ведь не было раньше в нашем городе. Они прошли строем, четко отбивая шаг. На ветру колыхались черные ленточки. Шли молча, без песен, зато мы, мальчишки, старались вовсю, распевая разными голосами: По морям, по волнам, Нынче здесь— завтра там! Я еще никогда не видел, как идут матросы, и мне захотелось тогда самому стать матросом и так шагать, чтобы на меня все смотрели. Вместе с другими ребятишками нашей улицы я выбежал на набережную, к тому месту, где причалило морское судно. Мы не сводили глаз с матроса на вышке. Он ловко размахивал двумя флажками: то правый опустит вниз, то левый выкинет в сторону. После этого мы все обзавелись флажками и начали тренироваться кто как умел. Оле очень нравилось, как я размахивал флажками. А у нее самой ничего не получалось, флажки то и дело наскакивали друг на друга. Много можно было увидеть и услышать на наших улицах: с полигона доносилась учебная стрельба, по мостовым грохотали учебные танкетки... На Тракторный приезжали фронтовики за танками. Они обкатывали танки; остановятся, вылезут из верхнего люка и начнут выслушивать машину. Тан- кисты нас никогда не отгоняли и жили с нами в большой дружбе. Мы, мальчишки, часто наблюдали, как маршировали ополченцы. Всем строем разом, по команде, они поворачивались кругом, и мы всегда смеялись, если кто-нибудь из них поворачивался не в ту сторону или путал ногу. ... Мама ушла провожать папу, а я сидел рядом с Олей на полу, складывал кубики с картинками диких зверей, а сам думал о том, сколько обещаний не успел выполнить отец. Отец обещал подарить мне кубики из нержавеющей стали, обещал взять на рыбалку, а к зиме купить черепаху или маленького разноцветного попугайчика, который летает и каркает, а главное, живет сто лет. В зоологическом саду мы были? Были. Я еще у него на плечах сидел. А вот на пароходе вниз по реке до самой Астрахани не прокатились. Не получил я в подарок и давно обещанного, настоящего барабана. А самое главное — не взял меня отец к себе на мартен, хотя сколько раз говорил: «Сведу обязательно!» После того как папа записался в народное ополчение, редко мы стали бывать и на Волге, только раз на пляж ездили. Мой папа разных волгарей знал — и капитанов-старичков и рыболовов. По гудкам узнавал названия пароходов. Любил папа мне про Волгу рассказывать: как мальчиком с крутой горы он в нее камешки бросал, как вязал плоты, как и где в разлив плавал, как паром на воду спускал и про то, как весной на отмелях сазанов руками ловил. Папа научил меня плавать. Только окунется разок, и не узнать его; озорничает, брызгается, меня за пятки хватает. На лодке обязательно под самый пароход подъедет, чтобы лучше на волнах качало. Если мама ездила с нами, она всегда надевала платье попроще, так как знала, что и ей достанется. Помню, как папа однажды ее с ног до головы окатил. Мама рассердилась, а папа как ни в чем не бывало изображал, как навигация начинается: то гудел, как буксир, то — как теплоход скорой линии. ...Оле быстро надоели кубики. Она все требовала, чтобы я сложил из них обезьяну, ту самую, которая так понравилась ей в зоологическом саду. Она протянула тогда обезьянке сливу. Та вначале понюхала, а потом съела, а косточку выбросила. Чтобы Оля не плакала, я стал рисовать ей маленьких человечков. Оля фыркала, когда я, рисуя, приговаривал: «Точка, точка, запятая, минус, рожица кривая». А потом я начал рисовать человечков с огромными животами, с кружочком посередине. Эти кружочки — арбузы. Маленькие человечки, а какие обжоры! . . Мама долго не возвращалась. Я закрыл ставни и опустил черные бумажные шторы. Мы тогда строго выполняли правила светомаскировки. На Волге были потушены огни, и только в окнах проносившихся трамваев мелькал синий свет. Когда мама вернулась домой, Оля давно спала. Себе под подушку я положил бинокль. Я, дуралей, тогда брал его с собой в кровать, чтобы сны лучше видеть. «А вдруг приснится мне Буденный не на машине, а в степи, на коне, впереди всей кавалерии,— думал я, — тогда я его как следует рассмотрю». Еще думал я о том, какой мой папа счастливый: он совсем близко видел на «Красном Октябре» у своей печи и Ворошилова, и Михаила Ивановича Калинина, и с наркомом Серго Орджоникидзе несколько раз беседовал и даже однажды получил от него за свои успехи поздравительную телеграмму. Она висела у нас под стеклом, рядом с почетной грамотой... Мама пришла, раздела Олю и мокрым полотенцем стерла с ее личика арбузные следы, поцеловала меня и сказала: — Вот и наш отец защищает Родину! Я ничего не ответил и закрыл глаза, будто засыпаю, а сам все время следил за каждым движением мамы. Вот она выдвинула ящики комода и начала раскладывать белье. Я все ждал, когда же мама ляжет спать. В такой поздний час она раньше никогда не занималась уборкой. Должно быть, опять что-то искала, чтобы эвакуированным детям отдать. Началась война, и много их в Сталинград приехало с Украины, из Ленинграда. Как-то я напомнил маме про штаны, из которых вырос, а она рассердилась и сказала: «Вырос, а из новых рубашек не вырос. У тебя их три. Вот рубашку и отдадим». Мама тогда все собирала — и вещи для эвакуированных и посуду для госпиталей. Меня отпускала вместе с пионерами по дворам и квартирам тряпки искать для заводов — рабочим станки вытирать. Мама долго копалась, потом сняла скатерть со стола, кружевную дорожку с комода и вышла из комнаты, прихватив с собой разбитое блюдце из-под горшка с цветами да зазубренный осколок зенитного снаряда, который я недавно подобрал на дворе. Я хотел сказать маме, чтобы она его оставила, а потом подумал — другой найду! Мама вернулась с ведром и вымыла пол. Все снова расстелила, а когда со всем управилась, посмотрела на себя в зеркало. Засыпая, я видел, как мама достала те же фотографии, которые сегодня разглядывал папа, медленно стала перебирать их, потом, подперев голову руками, долго, долго смотрела на одну из них. Хорошая, хорошая моя мама! Я старался угадать, о чем она так думает. Мама стала в последние дни особенно бледной и задумчивой, и все из-за фашистов, которые уже несколько раз сбрасывали на наш город воющие бомбы. Мамы не было дома, она копала за городом противотанковый ров. В это время один самолет неожиданно появился со стороны солнца и с ревом прошел совс
ем низко над нашим домом. По земле промелькнула тень чужого самолета. Я увидел на его крыльях черные кресты, обведенные белым. Маме же издали показалось, что сброшенные фашистские бомбы упали именно на нашей улице, и она прибежала, чтобы скорей узнать, все ли благополучно дома. Вечером, когда мама укладывала Олю спать, она крепко прижала ее к себе, так крепко, что мне даже завидно стало. Оля попросила, чтобы мама нагнулась; она хотела потрогать своими пальчиками ее глаза. — У, бандиты, куда забрались, — сказала мама очень громко. Мне хотелось выложить маме все свои познания, и я сказал: — Это был двухмоторный бомбардировщик «Юнкерс-88». Я тогда уже кое-что понимал в этом. Истребители «Мессершмитты» я называл «мессерами» и знал, что корпус самолета называется фюзеляжем и у воздушных кораблей не только «хвост», но и «хвостовое оперение», а пикирующие бомбардировщики падают камнем вниз. Я даже и Оле как-то показал, как все это происходит. Моя кровать была покрыта сиреневым пикейным одеялом. Я скомкал его и с криком «пике» кинул вниз. То же самое я потом проделывал с подушкой. — Везу-у, везу-у, всзу-у (летят фашисты), — сказал я с завыванием. Потом произнес быстро-быстро: — Кому, кому, кому? (Бьют наши зенитки.)— Затем очень сердито и громко: — Вам! Вам! Вам! (Рвутся бомбы.) — А под конец с удовольствием громко «щелкнул» языком — сбит хищник с черным крестом! Я прислушивался к рокоту моторов в воздухе и хорошо отличал нудный вой фашистов от мягких и чистых переливов наших быстрокрылых самолетов. Как нравились мне их короткие и бодрые названия: «Миги», «Яки» и «Лаги»! А мама во всем этом плохо разбиралась. Она стала настороженной, вздрагивала, когда хлопали дверью, и тревожилась, как только начинали бить наши зенитки. ... Когда я проснулся, мамы уже не было. Окна были раскрыты. В эти душные ночи мама раскрывала их, как только тушили свет. Мы спим еще, а она уже бежит в магазин за хлебом, чтобы получить его до воздушной тревоги. Я вышел на улицу. Наш дворник тетя Анюта поливала мостовую. Увидев меня, она прицелилась шлангом, и струя ударила мне в лицо. Вот и умываться не пришлось! Я подпрыгнул на одной ноге и вбежал в комнату. Чуть Олю не разбудил, хлопнув дверью. Оля перевернулась, легла на животик, руками уперлась в подушку, будто хотела нырнуть в нее, и в такой позе продолжала сладко спать. В комнате было светло и празднично. Ничего нигде не валялось. Через спинку кровати было перекинуто выглаженное мамой Олино любимое платьице с карманчиком. Бывало, только мама возьмет шитье в руки, Оля уже просит, чтобы ей платье с карманчиком сшили, как будто ей нужно было не платье, а только карманчик. Мама положила на комод новую дорожку, вышитую еще до войны, а на комоде в рамке поставила карточку отца. Мы гордились этой карточкой. Папу снимал не простой фотограф, а фотокорреспондент после того, как он дал скоростную плавку. Папа смотрел на меня двумя парами глаз; одни, большие, темные, налезли на лоб — это очки-стекла сталевара, — а под ними папины веселые глаза; он не то журил ими, не то подшучивал, будто видел, как меня окатили водой... А через несколько часов ничего этого не стало — ни прибранной комнаты, ни цветов на подоконнике, ни хлеба, принесенного мамой, ни рамки с фотографией отца... Весь мир знает, как это произошло. В солнечный августовский воскресный день тучи фашистских самолетов налетели на Сталинград. Они сбрасывали фугаски на каменные здания и обшитые тесом домишки, на больницы и гостиницы, склады и школы. Несколько суток густое пламя подожженной нефти бушевало над Волгой. В городе не унимался огненный ураган.... Утром мама принесла хлеб, одела Олю, потом сказала, что пойдет в школу. Мне так и не пришлось учиться в нашей школе. С начала войны в ней разместился госпиталь. Первый свой школьный год мы проучились на квартире учительницы, поэтому я еще ни разу не сидел за партой. Но в школу мы все равно бегали. Нас пускали в палаты разносить раненым чай. Они пили чай, а мы в это время говорили им стихи наизусть. Там же из марли мы катали бинты. Мама ушла, а я с Олей играл около дома в догонялки. Потом Оля съела кашу, я помог ей снять платье с карманчиком, и она улеглась спать. Все это началось, когда Оля спала. Она проспала тревогу. Прерывисто гудели гудки. Я уже привык к тревогам и не будил Олю. Но эта тревога оказалась непохожей на прежние. Разом застрекотали зенитки. Все завизжало, закружилось. Бомбы рвались совсем рядом. А потом так бабахнули, что наш домик закачался, как будто подо мной вместо крашеных половиц — качели и я лечу вниз с большой высоты. Из окон со звоном полетели стекла. Мне показалось, что кто-то барабанил по крыше. Я бросился к Олиной кроватке. Она проснулась у меня на руках и заплакала. — А ты не плачь. Сейчас будем в прятки играть. Я дотащил Олю до окопа во дворе. Папа вырыл его весной. Играя в прятки, мы часто залезали в укрытие. Когда же над городом все чаще и чаще с оглушительным ревом стали летать немецкие самолеты, мы прыгали в окоп без всякой игры, а по тревоге. Я завидовал наблюдателям, дежурившим на крышах. Знал я самые замысловатые авиационные названия и даже гордился этим, а гордиться-то было нечем. Бывало, я не мог отличить «Мессершмитт» от обыкновенной галки. Только решишь, что там, в высоте, одномоторный истребитель, следишь за ним не спуская глаз, а когда он приближается, видишь — вместо хищника летит ворона. Вот тебе и фюзеляж! В таких случаях я называл себя вороной. Когда вражеские самолеты сбрасывали розовые, белые, синие, зеленые листовки, я несколько раз вылезал из окопа и принимался их ловить. Думаешь, упадет на пустыре, а она прямо к тебе в руки летит; думаешь, вот сейчас упадет к ногам, а ее к Волге уносит. Из-за этих листовок мне однажды влетело от мамы. Она сказала, чтобы я к ним, поганкам, не смел прикасаться. На этот раз я не завидовал наблюдателям. ... Опять летят, вздыхают и кряхтят. Только мы залезли в окоп, как все засвистело и завыло. От свиста так стало тоскливо и тягостно, что я почувствовал, как и у меня внутри все тоже ноет. Оля прижалась ко мне. Такой шел гул, такой треск, что вот-вот голова разломится. У Олиных ног я вдруг заметил полосатого котенка, неизвестно как попавшего к нам в окоп. Он весь съежился и посмотрел на меня большими зелеными глазами. Я подумал, может, взять его домой; нагнулся и даже погладил «усатого-полосатого». Наверное, он замяукал или замурлыкал мне в ответ, но разве тогда можно было что услышать? Когда отдалились раскаты взрывов, я выглянул из окопа и посмотрел вниз, в сторону завода и Волги. Все обволакивали дым и пыль, но трубы «Красного Октября», как всегда, четко вырисовывались в безоблачном небе. Я разглядел: из одной трубы вьется дымок. По тому, как дым шел из труб, мой отец знал, что делается в печах. С пронзительным свистом пронеслись «Мессершмитты». За одним из них погнался наш ястребок. Он зашел ему в хвост... Эх, если бы сбили наши немецкий самолет и он упал бы рядом, я взял бы в плен фашистских летчиков. На мансардные дома со злобным ревом пикировали один за другим тяжелые бомбардировщики. А вот в небе над «Баррикадами» какой-то «Юнкере» кувыркнулся и кубарем пошел вниз, оставляя за собой длинный черный хвост дыма. Сейчас он грохнется здесь. Я даже зажмурился. А когда открыл глаза, увидел — мама бежит к окопу. Я еще никогда не видел ее такой. Волосы выбились из-под платка. Она остановилась у самого края окопа и вся дрожала, будто было ей очень холодно. Мама со всех сторон нас оглядела, похвалила за то, что мы укрылись в окопе. Опять раздался вой. Мама наклонилась к земле, а потом выпрямилась, оглянулась и побежала к-дому. Через несколько минут она снова была у окопа и спустила вниз большой узел. — Смотри — никуда! Сейчас воды принесу. Мама снова побежала к дому. На этот раз она появилась на крыльце с ведром в одной руке, другой же рукой прижимала к себе швейную машину. Мама направилась к окопу. Как раз в это время опять что-то огромное рассекло воздух. На нас посыпалась земля. Мне показалось, что у нашего дома отвалился угол. Грохот то утихал, то приближался. У меня гудело в ушах. Я снова высунулся, ожидая, что сейчас мама передаст мне ведро с водой. Как бы не расплескать! Мамы не было. Я посмотрел в сторону дома. Там, где стоял наш дом, полыхал огонь. И тогда я увидел, что совсем близко от окопа лежит мама, откинув голову на битые кирпичи. Я позвал ее, но не услышал своего голоса. Сейчас мама поднимется. Ведь уже можно встать. Она, должно быть, тоже не слышит меня. И Оля притихла, словно решала — заплакать ей или подождать? Я вылез из окопа. И почему-то пополз. Я полз, и мне все казалось, что мама стоит с ведром и швейной машиной на крыльце и смотрит на меня с укором: как смел я ее ослушаться — ведь она не велела мне вылезать из окопа... Нет больше крыльца. А мама лежит на земле, лицом к небу, с откинутой рукой. Я побежал к маме и остановился как вкопанный. На мамином платье в синих горошинах я увидел ярко-красное пятно у самой груди. Белая косынка, упавшая с плеч, вся залита кровью. За одной тучей бомбардировщиков летела другая. Завывали моторы. Людей кругом не было. Я не знал, что мне делать. А может быть, мама еще жива? Сколько врачей в нашем госпитале, они спасут, обязательно спасут маму! Я наклонился к осторожно положил ладонь маме на плечо, а потом прикоснулся к виску и еще раз посмотрел на пятно на груди... Я гладил и теребил мамины растрепавшиеся волосы и не верил тому, что произошло. Неужели все это взаправду? Нет, сейчас мама встанет, стряхнет с себя комья земли, и все будет как прежде. А пламя и дым все больше и больше окутывали наш дом. Ничего не понимая, я побрел к окопу и, только увидев Олю, опомнился. Сестра умудрилась вскарабкаться на узел и тянулась вверх. Ей еще надо было много расти, чтобы самой вылезть из окопа. Когда она хотела поцеловать маму в нос, она подтаскивала стул, взбиралась на него и, становясь на цыпочки, тянулась к ней. Оля увидела меня и заплакала. Как только я ее не утешал! А ей вдруг сразу все понадобилось: Мама, я луку хочу! Мама, пожарь мне лук! .. Мама устала, она отдохнет и лук тебе пожа рит, — обманывал я Олю, а сам подумал: «Как же мы будем жить без мамы?» Потом опять началась бомбежка. Оля, испуганная и оглушенная, сразу же смолкла, свернувшись калачиком на узле. Меня так потянуло к маме, что я снова вылез из окопа и побежал. Я уже не обращал внимания на вражеские самолеты, упал на колени и дотронулся до маминой еще теплой руки. И так захотелось мне крикнуть, позвать папу. Но все в горле застыло, будто кто перехватил мне дыхание. Я ведь жил и не знал, что такое горе, а оно навалилось средь бела дня. И вдруг как-то сразу понял, что мама ушла от нас навсегда и никогда не проснется; никогда, никогда у меня не будет мамы. И странно было, что затуманенными глазами я видел тупые носки своих ботинок. Первые минуты жизни без мамы... По дороге бегут, пригибаясь к земле, какие-то люди, что-то кричат, куда-то исчезают. Вот мужчина в военном прошел совсем рядом. Он посмотрел на меня, на лежавшую маму и только сказал: — Осколком! Кто-то окликнул меня, позвал по имени. Мелькнуло знакомое лицо женщины. Она работала вместе с мамой на дальних рубежах, заходила к нам то с лопатой, то с топором и всегда торопила маму. Должно быть, это она мне сказала про отца или я сам подумал, что он где-то совсем рядом; их часть стояла на бахчах, за городом, чуть ли не за аэродромом. Не может быть, чтобы отец после такой бомбежки не вспомнил о нас. Я снова оказался у окопа. Оля так и лежала, как я ее оставил. Полосатый же котенок царапал коготками песок. В окопе стало очень жарко. Рядом загорелся сарай. Огонь перекинулся на соседние дома; куда ни взглянешь — всюду к небу вздымаются вихри огня. Уже много времени прошло после того, как началась тревога. От гари слезились глаза. Еще задохнешься здесь. Я осторожно приподнял Олю и вытащил ее из окопа. Она нетвердо стояла на ножках. И узел я вытащил наверх. Только тогда я заметил, что Оля босая. Я просунул руку в узел и начал шарить. Что-то твердое, завернутое в платочек. Вытащил сверточек и развернул его. Папины часы. Опять завернул их в платочек и сунул за пазуху, а сам продолжал шарить в узле. Рука моя нащупала что-то пушистое. Должно быть, мамин воротник. А вот и они, красненькие туфельки с пуговичками. Мама называла их «выходными». Я старался не смотреть в сторону, где лежала мама, и только сказал ей: — Мы уходим, мама. Не знаю куда, но уходим. И мне казалось, что она мне ответила: «Иди, иди, Гена!» И мы пошли, сами не зная куда. Одной рукой я тянул Олю, другой — узел. Вскоре Оля остановилась и сказала: А киса где? Оля, милая, идем, — просил я ее. Она не двигалась с места. Тогда я оттащил узел. Подбежал к Оле, поднял ее и понес к тому месту, где оставил узел. По обе стороны улицы хлестал огонь, горели и дымились дома. Летели искры; того и гляди, попадешь под раскаленную головешку. На нас сыпались стекла. На зубах хрустела сухая кирпичная пыль. Только мы прошли, как сзади с грохотом рухнула высокая стена, и нас снова окутал пыльный известковый туман. Оля плотней прижалась ко мне, и я чувствовал, как дрожат ее ножки. Впереди виднелись раскаленные каменные глыбы. Мне казалось, что сейчас у меня начнет трястись голова, и так захотелось обхватить ее руками. — Эй, мальчик с пальчик, девочку не урони! — крикнул какой-то человек, пробегая мимо. Он даже не обернулся. А я успел заметить, что был он в трусиках и в одной руке держал какой-то длинный круглый футляр. Я с облегчением опустил сестру на землю у узла. Около нас оказался чужой дяденька. Он не спешил, как другие. Был он невысокого роста и с бородкой. На его плечи была накинута длинная шуба, а в руке он держал круглую меховую, очень важную шапку. Он начал жалеть нас и называть «детками». Помнится, что он начал говорить о подвале какого-то невысокого дома, где он накормит нас тыквенной кашей и уложит спать; этот подвал бомбы не разворотят, так как там какие-то толстые стены. Я тогда еще всем верил. А дяденька этот гладил Олю по головке и все сокрушался, что на ней только ночная рубашечка. Потом он схватил узел, вытащил мамину белую шаль, сложил ее и накинул Оле на плечи; потом вытащил мамин воротник, встряхнул его и снова всунул в узел вместе со своей круглой шапкой. — Вы постойте здесь. Я узелочек-то отнесу и сей час же за вами приду. Он говорил, а сам все вытирал рукавом шубы свое потное лицо. — Я сейчас, сейчас, о
дну минуточку, — кричал он, подбирая полы своей длинной шубы. Он исчез с узлом так же быстро, как появился. Долго стоял я с Олей, не выпуская ее руки из своей. Потом вспомнил о часах. Приложил их к уху. Тикают. И дал Оле послушать папины наградные «тики-таки». Я говорил Оле, что скоро мы вволю напьемся воды, и будем есть кашу, и я ей достану новую ложку для каши... Не спеша, по-своему, я укутал ее в шаль; концы шали связал за спиной. Хоть и упадет искра, так не обожжет. Говорил с Олей, а сам нет-нет, и приложу часы то к одному уху, то к другому. Они словно говорили мне: «Отец жив, отец жив» и «ты, мальчик, еще не оглох, не оглох». Но в ушах все звенело. Я долго ждал, потом начал считать. Сбивался со счета, снова считал. Отсчитаю, заложу палец и опять считаю. А чужой дяденька все не появлялся. Хорошо, что хоть часы ему не достались. Наконец решил: хватит ждать, и снова потянул за собой Олю. А она, как и раньше, упирается и ни с места. Я поднял ее на руки и понес. — Хочу к маме, хочу к маме! — кричала Оля. Она давилась криком. Ее личико опухло от слез. Я нес ее не останавливаясь. Мне казалось, что мы ушли далеко от того места, где меня обманул дяденька. У меня онемели руки. Тогда я опустил Олю и даже рассердился на нее: я ей «иди», а она все кричит «домой!». Как бы мне втолковать ей, что у нас больше нет дома? Только одни папины часы остались. И папа есть у нас. Зенитчики отгонят фашистов, и мы найдем папу или папа найдет нас. Оля присела на корточки, а я ее потянул за собой. Брал на руки и снова нес, стараясь не упасть, не свалиться в яму. Тяжело было идти по вязкому, расплавленному асфальту. То и дело я на что-то натыкался; под ноги попадали какие-то обгоревшие бревна, доски повален- ных заборов и сбитые телефонные столбы. Я обходил раскаленные листы кровельного железа. У меня тогда впервые в жизни были при себе часы, но я сбился не только со счета, но и во времени: так было светло от ракет, от пожаров, от зарева. Как и днем, гудели самолеты. И только далеко в темной высоте скрещивались и вновь расходились лучи прожекторов. Мимо нас пробегали люди. Они искали бомбоубежища, исчезали в подъездах домов, прыгали на тротуар прямо из окон первых этажей, окликали и догоняли друг друга. Кто-то кричал надрываясь. Пробегут — и опять никого нет. Потом снова появляются люди, отбрасывая от себя то длинные, то короткие тени. Мне стало так страшно, когда я подумал, как же мы будем жить без мамы! Что будет с нами, куда идем, кому нужны? Я не знал, что мне и придумать. Папа нас защищает, а где он, папа? Должно быть, стоит на посту, а может быть, дерется с врагами. Только вспомнил я папу, а в это время какая-то обезумевшая женщина толкнула меня, чуть не сбив с ног. ...Бегут пожарные. Один из них, с красным лицом, одной рукой приподнял Олю, другой ухватил меня и перенес через горевшие, наваленные друг на друга бревна, должно быть приготовленные для постройки. Он поставил нас наземь, приложил по-военному руку к своей блестящей каске и сразу же исчез. Я старался ни о чем больше не думать и не смотреть по сторонам: и так нос разбил и Олю чуть не уронил. Хорошо, что дядька в шубе освободил меня от узла. С узлом и с Олей мне бы вовсе не справиться. Вдруг я почувствовал, что делаю последние шаги, ноги подкашиваются. Больше не могу тащить Олю. Болели локти, подгибались колени и ныла спина. Ни- когда не думал, что сестренка такая тяжелая. И на руки ее не подниму. Иду и плачу. Тогда я решил схитрить: отойду на несколько шагов вперед и позову Олю. Хоть и упрямая девчонка, а не захочет же остаться одна и подбежит ко мне. Когда в догонялки играли, она как бегала! Вот и дойдем мы, как все, к берегу Волги. Так и сделал: отошел на несколько шагов вперед, обернулся и позвал Олю. Потом снова шагнул и опять позвал. Я ждал — сейчас она пойдет за мной. Опять загудели самолеты. Совсем рядом ослепительно вспыхнула ракета. — Оля, ложись! — крикнул я что есть силы и сам прижался к стене. Фашисты отбомбили, и в воздухе еще сильней запахло горелым. Я посмотрел назад и обомлел. Тот же забор, все на месте, только нет моей Оли. Как это было страшно! Где же она, притворщица? За мной не идет, меня не слушается, еще вздумала в прятки играть. — Оля! Оля! Сколько раз папа и мама говорили мне, чтобы я не оставлял Олю. Я облазил все кругом. Куда же она делась? Ведь самолеты бомбили не здесь. Не подхватили же ее фашистские летчики. Я хорошо знал, твердо был уверен, что с Олей ничего не может случиться. Ее не могут убить, ее не посмеют тронуть никакие осколки. Ведь она такая маленькая. Я решил больше не звать ее, а прислушаться. Ну что стоит тебе, Оля, заплакать? Прислушался и услышал, как шипит огонь и, пылая, потрескивают балки; что-то загромыхало и рухнуло, а после этого мне даже почудилось, что совсем рядом со мной застрекотал кузнечик. «А вдруг если не Олю, так пожарного встречу, он мне поможет», — подумал я и оглянулся. Пожарного не было, и я остановил мужчину, который вялой походкой проходил 1мимо. Он весь был в известке. — Дяденька! Вы тут маленькую девочку не видели? Тот с удивлением посмотрел на меня. — Вот так на спине шаль повязана, — показал я ему. А он только пожал плечами и пошел дальше, ничего не ответив. И тогда я вспомнил о бинокле. Не сны бы им разглядывать, а сейчас бы посмотреть кругом. Я увидел дом с отвалившейся стеной. Лестница. И мне почудилось, что Оленька, закутанная в шаль, стоит там на ступеньках. Я взобрался на лестницу, всю заваленную битой штукатуркой и кирпичом, но сестры там не было. «А может быть, к дому затопала? Ведь недаром все время домой просилась», — подумал я. Из-под моих ног выпорхнула птичка. Я почувствовал, как она коснулась крылом моей щеки, словно хотела прижаться, ища защиты. Она села мне на плечо, но тут же опять взмахнула крыльями и заметалась. Грачи, голуби и другие птицы не боялись нас больше. Они стали совсем ручными: то садились на карнизы, то стремительно носились в горячем воздухе, не зная, куда податься. А я подумал: «Вот глупенькие! Что им здесь делать? Зачем им дожидаться осени? Поскорей бы умчались в жаркие страны». Может быть, они и хотели улететь, но, слетая с опаленных деревьев, падали вниз. Я шел и видел людей, неподвижно лежавших на тротуарах и на мостовой. У них были открыты глаза, но они уже ничего не видели. А может быть, произошло чудо и мою маму спасли доктора? Я знал, что люди умирают, но все еще не мог понять, как это могла умереть моя мама. И ноги сами понесли меня обратно к нашему поселку. Ракеты озаряли небо. Одни гасли, другие взлетали, повисали в раскаленном воздухе, все окрашивая своим ослепительным молочным цветом. Сколько воронок кругом! За каменной оградой я увидел хорошо знакомый мне дом. Сюда отводила меня мама в детский сад. По этой дороге, вниз, тетя Тося водила нас парами гулять на берег Волги. В этом доме доктор, весь в белом, в смешной белой шапочке на голове, делал нам уколы, чтобы мы никогда ничем не болели. Я взглянул и даже остановился, чтобы перевести дух. Дом, разбитый и обгоревший, смотрел на меня пустыми окнами. А еще через несколько минут я подошел к тому месту, где еще утром стоял наш дом. Все сгорело дотла. Только еще дымился и дотлевал мусор там, где был наш сарайчик. Мама лежала на том же месте. Я лег рядом на комья земли. Как было нам хорошо всем вместе! Папа посадил яблоньки и недавно, несмотря на войну, выкрасил ставни и приделал к ним новые крючки. Папа на фронт ушел, а мама всю ночь не спала, прибирала. И ничего этого нет и не будет. Как я был уверен, что моя молодая мама проживет по крайней мере еще сто лет! Я лежал рядом с мамой и разговаривал с ней, гладил ее уже похолодевшую руку, целовал и обещал разыскать Олю и никогда больше с ней не расставаться. Когда ракеты разливали свой яркий свет, мамино лицо становилось совсем белым. Мне даже показалось, что зашевелились ее губы, и послышалось, что и мама говорит со мной, убаюкивает... Так я заснул около мамы. Должно быть, опять над головой рокотали и завывали немецкие самолеты. Но я так уморился, что ничего больше не слышал. А когда очнулся, опять увидел убитую маму и понял, что я остался совсем один. Было уже светло, но так же дымно, и в воздухе все завывали фашистские самолеты. При солнце потускнели огни пожаров, но зато стало еще душней, еще угарней. Неунимавшийся ветер закручивал пыль, смешанную с горячим пеплом, перекидывал пламя с одного здания на другое. Подъехала машина. Из нее выскочили люди, по-разному одетые, но все в металлических касках. Они начали растаскивать горящую крышу углового здания. Я и не заметил, как они появились на соседнем дворе, где врылась в землю неразорвавшаяся бомба, выставив наружу свой ребристый страшный хвост, черневший на желтом песке. Вначале все они обступили бомбу, потом разошлись. У бомбы остался только один человек. Кто-то крикнул мне, чтобы я укрылся в щели. Но я так и остался на своем месте. Вскоре человек, возившийся у бомбы, весело закричал: — Не ранит, не убьет, а на шихту пойдет. Вокруг него собрались любопытные. А потом меня заметили, подошли и начали расспрашивать, где отец, кто у меня остался из родных, в каком я классе... Некоторые спросят, только соберусь я ответить, а они уже уходят; видно было, что и так им все понятно, не один я такой. «А зачем же тогда спрашивать?» — подумал я с досадой. Чуть затихал гул самолетов, жители вылезали из щелей и подвалов. Среди них я узнавал и наших соседей; все они выглядели какими-то почерневшими, осунувшимися, как после болезни. Пепел и сажа летели, как мошкара. Только дворник, наш, тетя Анюта, была такая же, как всегда, в белом и, как мне показалось, чистом фартуке. Я не просил, а она принесла мне жестянку с водой и кусок сахара. Она ни о чем не спрашивала, но я понимал, что она, оглядываясь по сторонам, ищет Олю. Сам хотел рассказать тете Анюте, что вчера потерял Олю, но промолчал, так как понял: начну говорить об этом — зальюсь слезами. Тетя Анюта, отойдя в сторону, шептала про меня высокой девушке с забинтованной рукой: — Хорошо люди жили. Он вот — весь в мать, а сестренка его — чистый отец. Ну, думала я, счастли вые. Вот тебе и счастье! Высокая девушка подошла ко мне, вытерла мои слезы и протянула здоровую руку. — Меня зовут Шура. Так мы и познакомились. Шура не выпускала моей руки. Точно так я держал Олю, когда боялся, что она от меня убежит. Рука у Шуры была большая, шершавая. Должно быть, Шура очень сильная. И понял я, что хоть она и ни о чем меня не спрашивала, а думает обо мне и о моей маме. Тетя Анюта приподняла с земли мамину голову, поправила ей волосы и стряхнула землю с маминого платья. Я увидел, как встрепенулись и ожили складки платья. Может быть, мама вскочит сейчас так же стремительно, как вскакивала она, когда ей казалось, что она проспала... Женщины вместе с тетей Анютой подняли маму и понесли к неглубокой воронке. Тетя Анюта позвала меня. Шура подошла вместе со мной. У мамы были закрыты глаза. Я поцеловал маму в сжатые губы. Шура и здесь не выпустила моей руки. Земля тонким слоем покрыла маму. Когда опять над нами нудно завыли фашисты, ни кто из женщин не побежал к щелям. Они кидали в воронку горсти земли. Земля тонким слоем покрыла маму. Я ничего не видел, кроме рыхлой насыпи над мамой. Шура еще крепче сжала мою руку. Не помню, как оторвались ноги, и мы пошли. Тетя Анюта догнала нас и дала мне кепочку. Я взял ее в руку. Шура долго молчала. Она шла большими шагами. Мне так хотелось еще раз оглянуться! Должно быть, тетя Анюта смотрит нам вслед. Но как мог я оглянуться, когда и так еле-еле поспевал за Шурой. «Мужчины не плачут, мужчины не плачут», — повторял я папины слова, а у самого глаза были полны слез. А потом я испугался: совсем забыл про Олю. Вытер слезы и снова стал смотреть по сторонам на дымящиеся развалины. В одном доме рухнула стена, обнажив комнаты, оставленные людьми: сундук с поднятой крышкой, перевернутые стулья, кровати, медный таз. А гардероб упал набок, поблескивая осколком зеркала. Совсем рядом застучал зенитный пулемет, но я даже не посмотрел в небо. Когда мы отошли за несколько кварталов, Шура пошла медленней, взглянула на меня и спросила: — А ты слона видел? — Какого слона? — Из зоологического сада слон удрал. Я его ночью видела, совсем рядом пробежал. «А я не видел», — подумал я. Мне очень захотелось увидеть слона, но я не стал больше спрашивать о нем Шуру. Мне хотелось узнать, кто же она, моя спутница. — Тетя Шура, а ты не докторица? — Вот и не угадал. Была я наладчицей на Тракторном, а если поучусь, инженером стану. А пока меня профессором по членским взносам называют в райкоме комсомола. А со вчерашнего дня вот таких, как ты, собираю. Только не все такие любопытные. «Профессора такие не бывают», — подумал я. И почему-то вспомнил мамину фотографию в спортивной майке, когда она работала нормировщицей на Метизном. Шура такая высокая и большая, а лицом чуть-чуть похожа на мою маму. — Тетя, помоги мне Олю найти! — А где же ты ее потерял? — Там, где горит. Я показал рукой. — Сейчас всюду горит. А какая она, твоя Оля? — Маленькая, бровки беленькие. — Может быть, и найдем, если она маленькая да беленькая, — сказала Шура и тут же добавила: — Тогда вместе вас и отправлю. –А если папа придет? — Сейчас папа не придет. Папа твой за Мечеткой воюет, фашистов в Сталинград не пускает. — А мы Олю найдем? — снова спросил я Шуру. На этот раз она мне ничего не ответила. Мы шли по улице, где дома еще стояли целые, с трубами на крышах и занавесками на окнах. У одного из зданий Шура остановилась: — Вот здесь, в подвале, много детей. Смотри луч ше, может быть, и Оля здесь. Мы спустились в подвал, освещенный светом керосиновой лампы. На ящиках и матрацах я увидел много малышек, как будто снова попал в детский сад. Кто-то плакал, но как-то не с охотой. Нет, это не Оля. Уж если Оля заплачет, так вовсю. И тогда я осмелел и громко позвал: — Оля! Оля! Мне показалось, что кто-то отозвался из темноты, но это только эхо повторило мой голос. — Сестренку свою потерял. Разве теперь най дешь! — со вздохом произнесла какая-то женщина. — Вот Рая есть, и Женечка, а про Олю не слы хали, — услышал я от другой. Шура начала выводить детей из подвала. О
на стояла у выхода и всех пересчитывала. А потом позвала меня: — Ну, а ты у нас семнадцатый. Пошли! Мы вышли на улицу, спускавшуюся к Волге. Вереницей тянулись старые да малые; тащили узлы, ведра, толкали тележки... Одна женщина вела за руки двух девочек в одинаковых клетчатых платьях. А сзади за юбку матери крепко ухватился мальчик. Одна из девочек в очках. Вот они все согнулись, девочка в очках уткнулась лицом в землю. Вот они поползли. Снова пошли. Спустились к берегу. К тете Шуре прижимался мальчуган, который стонал, прихрамывая. А со мной рядом шла девочка с котомкой за плечами. И у них, как и у меня, больше нет мамы... Весь берег был заполнен людьми, ждавшими посадки на катера, баржи, лодки и речные трамвайчики. Мы остановились у самой воды, около двух пальм в больших круглых кадках. — Что за курортник их сюда приволок? — спросила Шура. Пока она разговаривала с людьми, отдававшими распоряжения, я старался как можно лучше все разглядеть. Из воды торчали какие-то трубы, мачты, обломки перевернутой и затонувшей баржи... Прибрежные кручи были изрыты щелями, как норками. И сейчас женщины копали их руками. Они укрывали в них детей, прятали узлы. Кто ползет, кого несут на руках... Многие подходили к Волге, набирали в ладони воду, мочили голову, обмывали лицо. Какой-то старик упирался. Он не хотел идти к трапу, где шла посадка на речной трамвайчик. Его тянула за собой внучка. — Тут моя старуха схоронена. Не оставлю ее, что вы со мной делаете?! Я здесь останусь! — кричал старик. А внучка все тянула его за собой. Шура вернулась к пальмам. — Вас всех отправят этим рейсом. И ты, Гена, поедешь, — сказала она мне. — Может быть, и Олю там найдешь. Всех детей туда отправим. Я затаил дыхание. Как мне уговорить Шуру? Я все равно убегу. Я посмотрел на далекий пологий берег. Где я там буду искать Олю? Здесь отец, здесь Оля, мама лежит в воронке. И, наконец, здесь тетя Шура. И я сказал ей: — Не хочу уезжать. Мне нельзя. Я обещал маме, что буду искать Олю. А мы ее совсем не искали. Шура молча слушала мои доводы. И тогда я вспомнил о часах. Я вытащил их из-за пазухи, развернул тряпочку и протянул их Шуре: Это моего отца. Тут все написано. Тетя Шура, не отправляйте меня. Я хочу с вами. Я буду вашим адъютантом. Адъютантом? — переспросила Шура и щелкнула крышкой часов. — Так твой отец сталевар Соколов?! Что мне с тобой только делать? Возьмите часы, товарищ Соколов. Вы еще не умеете их заводить. Вот узнаем время, тогда заведем. Я снова спрятал часы. Мы пошли к трапу. В это время кто-то позвал Шуру. А я, как по тревоге, юркнул в ближайшую щель и прижался к земле. Здесь я чувствовал себя в безопасности. «Скорей бы отвалил трамвайчик», — думал я, а сам не терял из виду свою новую знакомую. Шура и еще какие-то взрослые люди помогали малышам взойти на трап. Вот на таком речном трамвайчике мы ездили с отцом на пляж. Возвращались домой поздно вечером. Л когда теперь вернутся в Сталинград те, кого увозит сейчас трамвайчик, вымазанный желтой глиной под цвет волжского берега, увитый запыленными зелеными ветками? Капитан, усатый человек, наклонился и что-то произнес в трубочку. Трамвайчик вздрогнул. Матросы убрали трап. Тогда я вылез из своего укрытия и как ни в чем не бывало подбежал к Шуре и стал рядом. А она будто и не заметила моего исчезновения, достала платочек, замахала всем и отдельно капитану. И он, верно, хорошо знал Шуру: смотрел на нее и тоже махал рукой. На верхней палубе я увидел старика, не хотевшего уезжать из Сталинграда. Он ухватился двумя руками за барьер. И уже не кричал, а, должно быть, что-то шептал. Рядом с ним стояла внучка. Удержит ли она своего деда, если он сейчас прыгнет через барьер? Теперь уж не прыгнет. Трамвайчик взял полный ход. Шура схватила меня за руку и удивленно спросила: — Ты еще здесь? Я ничего не ответил. Мы пошли. Только сделали несколько шагов, как откуда-то, приглушив моторы, вынырнули черные самолеты со свастикой на хвостах. Они летели совсем низко вдоль берега, а потом, изменив свой курс, полетели над водой туда, где шел волнам наперерез в сторону Красной слободы наш трамвайчик. Фашисты пикировали один за другим. Огромные столбы воды заслоняли от нас трамвайчик. А потом мы увидели: он все держится на бурлящей воде. Капитан ведет его среди разрывов. — Мой отец, — сказала Шура. Мы не отрывали взгляда от поднимавшихся вверх фонтанов. Когда чернокрылые перестали кружить над водой и ушли за бомбами или на новые цели, я посмотрел на Шуру. Ее лицо было перепачкано копотью. Разорванная в нескольких местах юбка была в пепле и саже. Бинт на руке пообтерся, покрылся кирпичной пылью. И брови ее опалены. Она уже не смотрела на реку, а себе под ноги, точно спала с открытыми глазами. Если бы Шура знала, как сразу привязался я к ней, как верил, что вместе мы обязательно найдем Олю! Где только мы ее не искали! Шура выполняла, как тогда говорили, «особое задание». В горящем городе, в подвалах и блиндажах, она, так же как и другие комсомолки, разыскивала детей, оставшихся без родных. С набережной Волги мы пробрались в центр города. Шура то и дело останавливалась, и, когда она смотрела на развалины, мне казалось, что сейчас она закричит. Ведь раньше она, должно быть, не раз бывала в этих зданиях. А мне не пришлось побывать даже во Дворце пионеров. Вначале Шура молчала, а потом начала почем зря ругать фашистов. Как только она их не называла! 'И «окаянными», и «душегубами», и «мазуриками», и даже «фараонами». Мне было жаль, что до фашистских летчиков, туда, в небо, не долетают эти слова и никто их сейчас не слышит, кроме меня. Мы прошли мимо памятника нашему земляку Герою Советского Союза летчику Виктору Хользунову. Он стоял на высоком постаменте во весь свой рост. Меня всегда тянуло к этому памятнику. Я любил смотреть в лицо летчика, разглядывать его шлем и большую кожаную перчатку, которую комдив держал в руке. Эх! Как мстил бы он врагам за все. Мы шли через скверы площади Павших Борцов, обходя огромные воронки, пахнувшие гарью. Вышли к зданию городского театра. У входа, как всегда, по обе стороны — два льва с пышными каменными гривами. В этом театре я не был раньше, и мне очень хотелось подняться по широким ступеням парадной лестницы, но пришлось следовать за Шурой вниз — в бомбоубежище. Бомбоубежище было заполнено детьми — и такими, как я, и такими, как Оля; были здесь и постарше, с пионерскими галстуками, и совсем крохотные, которым дают погремушки. Я хотел сразу же обойти подвал, осмотреть все углы, но Шура остановила меня, усадила и через несколько минут принесла полную до краев тарелку гречневой каши. Я ел, а сам прислушивался к голосам. Здесь плакали и смеялись, и опять я услышал разговор о слоне, о том, как он поднял хоботом валявшуюся на улице куклу, как он бродил по набережной и сопротивлялся, когда его хотели погрузить на паром. Его привязали к грузовику, тянули на паром, а он перевернул машину и снова убежал в город, ломая на своем пути заборы и палисадники. Здесь плакали, но никто не плакал так, как Оля. Прикончив кашу, я начал обход; разглядывал спящих в креслах, на опрокинутом шкафу... Девчоночки спали, обняв свои куклы, а какой-то мальчуган прижал к себе деревянный паровоз, колесами к щеке. Но ни среди тех, кто играл, убаюкивая кукол, ни среди тех, кто тревожно кричал во сне, не было Оли. А Шура уже торопила меня. Она взяла под мышку несколько свертков и мне дала такие же. На лестнице мы встретили пожилого человека с густой бородой, расчесанной на две стороны. Он быстро поднимался наверх в легких коричневых брезентовых сапогах. У него на груди, на белой парусиновой косоворотке, я увидел орден Красного Знамени и какую-то неизвестную мне медаль. Шура поздоровалась с ним и даже меня представила: — Гена, мой адъютант. Он остановился, заглянул мне в глаза и ничего не сказал, а только ласково потрепал по плечу. Потом Шура рассказала мне об этом бородаче, и я пожалел, что так скоро мы с ним расстались. В гражданскую войну он был красным партизаном. Царицын защищал, а сейчас, так же как и Шура, выполняет «особое задание». А медаль свою на ленте получил еще в прошлую войну России с Германией. — Старый, а лихой, — сказала про него Шура. Вот какие люди занимались тогда нами, детьми! Свертки вначале показались мне очень легкими, а потом они как-то сразу потяжелели. Мы шли вдоль трамвайной линии. Я смотрел на обгоревшие остовы трамвайных вагонов. Как весело позванивали они совсем недавно! — Ну, вот и дома, — сказала Шура и тут же до бавила: — Дом грузчика. Мы опять спустились в подвал. Здесь Шуру ждали. Из наших рук девушки в белых косынках выхватили свертки. — Вата и медикаменты, — объяснила Шура. В подвале было светло. У стен стояли маленькие кроватки. На полу — ковер, на котором раскиданы игрушки и среди них даже слон. Только потом я узнал, как все это попало в подвал. На втором этаже Дома грузчика помещался детский сад. Я не раз потом, выполняя разные поручения, таскал вниз табуретки и горшки с цветами. В этом подвале до бомбежки размещался кондитерский цех, и сладкий ванильный запах напоминал о многих вкусных вещах: о ватрушках, о слоеных пирогах. Мама пекла их, когда еще не было войны, и даже теперь собиралась испечь к Олиному дню рождения. В подвале каждое утро повариха угощала нас горячими лепешками. Лепешки пекли и на дорогу тем, кого отправляли за Волгу. Одних отправляли, других приводили. И многие из них рассказывали, что видели большущего слона. А мне слона так и не пришлось увидеть. Повсюду говорили потом в Сталинграде, что знаменитый слон еще долго носился по развалинам и пепелищам; когда стихал огонь, он отдыхал в оврагах, а потом снова, разъяренный, метался по городу. В темноте он не раз пугал фашистов; они воображали, что это передвигаются наши войска, и открывали по слону неистовый огонь. Этот слон, как я слыхал позже, был убит и съеден фашистами. У Шуры было много помощниц, а одну из них я даже вначале принял за девочку, которую тоже должны были отправить на левый берег. Худенькая, с косичками, она сидела в углу пригорюнившись. Что это с тобой? — крикнула на нее Шура. Они же так страдают, дети, ведь еще жизни не видели! — ответила она. А ты лучше спой, — попросила ее Шура. Я узнал про нее, что она училась в восьмом классе. Все восхищались ее чистым голосом и говорили, что ей надо будет поступить в консерваторию. А за то, что она знала много песен и никогда не уставала их петь, называли ее не просто Женей, а «Женей-патефончиком». Проснешься утром, она про Степана Разина поет. Засыпали мы под колыбельную песню: Но отец твой старый воин, Как-то закрыл я на минуту глаза. Хоть и усыплял Женин голос, но мне не спалось. Женя перестала петь. О чем-то заговорила с ней Шура. А мне было интересно. Долго говорили они вполголоса, с одного на другое перескакивали, а потом, слышу, речь зашла обо мне. Давным-давно это было, а до сих пор помню, как заколотилось сердце. До меня доносилось: «Не знаю, что мне с ним делать». — «Нельзя рисковать жизнью мальчика». — «А вот недавно переправляли, как налетели, прямое попадание». — «С отцом его не могу связаться». «Говорите, говорите!» — так и вертелось у меня на языке, но я не выдал себя, тоже был хитер. Но тут Шура вздохнула и заговорила о другом. Как мне хотелось напомнить ей то, что она сама рассказывала о других мальчишках! Ну подумаешь, на два — три года постарше меня. Ведь и я подрос за это время. Утром я боялся показываться Шуре на глаза. Прятался от нее. А потом все пошло своим чередом. Но я уже не отводил глаз, когда по временам не то сурово, не то с укоризной Шура смотрела на меня. Несколько дней прожил я в Доме грузчика, вернее, приходил спать на отведенный мне матрац. Когда Шура оставляла меня в подвале, я должен был забавлять малышей, и я рисовал им маленьких человечков и делал из бумаги лодочки и треугольные шляпы, которые называл касками. Взрослые часто спрашивали у меня время. Шура научила меня обращаться с часами. Я их сам заводил и переставлял стрелки. Особенно же часто спрашивали, который час, когда к нам в подвал Дома грузчика привезли новорожденных. Я хорошо запомнил все, что слыхал тогда об этом. Бомба попала в родильный дом. Та часть здания, где находились новорожденные, уцелела. Им было всего по нескольку дней. Когда их привезли, Шура заплакала. А повариха долго мыла руки. Их было восемь. Она уложила всех в ящики. Ждали, что с той стороны должны привезти молоко, за которым с переправы ушел катер. Вот тогда-то все и спрашивали у меня, который час. Я боялся подойти к детям. Но издали я на них все же посмотрел. Эти розовенькие голыши были так похожи друг на друга, что я решил: это, наверное, близнецы. Мне тоже очень хотелось, чтобы как можно скорей привезли молоко. Как долго тянулось время! Молоко привез милиционер. Он передал поварихе маленькие бутылочки, и она стала учить девушек, как подносить бутылочки к ротикам малюток. Потом эти бутылочки согревали в тазу с теплой водой. И милиционер, так же как и я, издали смотрел на то, как все это происходит. Он ушел на переправу только после того, как кончилось кормление. Его благодарили девушки и Шура, и он благодарил всех, будто это именно он был отцом всех восьмерых близнецов. Ночью девушки выносили ящички с детьми из подвала. Женя-патефончик сняла туфли на каблуках и надела тапочки. Бережно прижимала она к себе драгоценную коробочку. Шура шла первой. Она указывала путь. «Только бы не уронили», — думал я. Меня оставили в подвале, а мне не спалось. Я ждал, когда вернутся наши. Я лежал с открытыми глазами и думал: «Я-то знал свою маму, а что смогут вспомнить эти малютки, лежащие в вате?» Прошло много лет, а об этих младенцах я часто и теперь думаю. Если они остались живы, они уже учатся в школах, получают отметки, носят пионерские галстуки. На тот берег их переправили благополучно. Одни заботливые руки передали их в другие. На берегу их тоже ждали бутылочки с теплым молоком. И дальше их несли и везли так же осторожно. Когда девушки ночью вернулись в подвал, я не спал. Шура подошла ко мне, погладила по стриженой голове, велела сейчас же заснуть и сказала: — Пора, пора и тебе за Волгу! Я закрыл глаза, но еще долго не спал. А когда проснулся, не узнал Шуру. На ней вместо обгорелой юбки, чиненной великое множество раз, были брюки. Они были ей чуть коротки, но зато совершенно новые. И новая черная гимнастерка, расстегнутая у ворота. Только рукава такие, как будто их кто остриг. Обож
женная рука Шуры была перевязана белым-пребелым бинтом. Девушки окружили Шуру, щипали ее, поздравляли с обновкой, называли ремесленником. И действительно, она раздобыла себе форму ученика ремесленного училища, должно быть, специально сшитую рослому парню. — Я за тобой пришла, — сказала мне Шура. «Значит, за Волгу», — решил я и растерялся. — В баню, в баню, трубочист! — Шура улыб нулась. Видно, ее насмешил мой растерянный вид. А у меня сразу же отлегло от сердца. — У нас, девочки, на Сурской баня воскресла, — продолжала она, обращаясь ко всем. — Я вначале по думала — баня горит, а оказывается, это из котельной трубы, как полагается, дым валит. Водопроводчики постарались. Фашисты к городу рвутся, а мы паримся. Первый раз в жизни я попал в настоящую баню. Папа мой мылся всегда на заводе под душем и в бане любил попариться, а мама устраивала нам с Олей баню на кухне: нальет в таз горячей воды и начнет тереть с головы до ног. Эта настоящая каменная баня была двухэтажной. Но для мытья были открыты только подвальные помещения. Я перепутал краны и ожег себе ладонь горячей водой, от воды на ногах ожили царапины, которых я раньше не замечал. Но все это никак не омрачало моего восторга. Я наслаждался водой. Добродушный дяденька с ямочкой на подбородке намылил мне спину. Он тер ее и тер, а сам все приговаривал: — Люблю старых моряков. Вся спина в ракушках! Он вылил мне на спину шайку прохладной воды, шлепнул и сказал на прощание: — Мыл — не устал, вымыл — не узнал. Шура ждала меня. Когда я вышел, она крикнула: — Ах ты, мой красненький! Только сейчас видно, как брови опалил. Не успела Шура это сказать, как вдруг заговорило радио: на недавно вбитом в землю столбе я увидел репродуктор. Шла передача из Москвы. Диктор таким знакомым голосом передавал утреннюю сводку Совинформбюро о том, что в течение ночи наши войска вели бои под Сталинградом, под Новороссийском и неведомым мне тогда Моздоком... Мы тронулись в путь только после того, как выслушали всю сводку. — Жаль, не передали еще одно важное сообщение: про нашу баню, — сказала Шура и засмеялась.— Что удивляешься? Неплохо бы Адольфа позлить. Гитлер хвастал, что двадцать пятого июня он Сталинград захватит, а уже сентябрь, и сын сталевара Геннадий Соколов славно вымылся в сталинградской бане. Шура всегда мне все рассказывала. Я знал о том, как в степи за Тракторным рабочие-ополченцы приняли бой и не пустили фашистов; как в город прибывали всё новые и новые полки, а главное, хорошо запомнил: «Сталинград не будет сдан!» Шура каждый день получала нашу «сталинградочку» — «Сталинградскую правду». Газета стала совсем маленькой. Когда в редкие часы затишья женщины вылезали из подвалов и щелей и на двух кирпичах готовили пищу, Шура подсаживалась к нам, рассказывала об эвакуации, а сама доставала «сталинградочку» и с гордостью говорила: — Здесь напечатана. Самая свежая! В городе все еще горели дома. Одни догорали, Другие вспыхивали. Каждый день фашистские летчики висели над Волгой, обрушивались на переправы, выгружали свой груз на деревянные домишки; черными тучами с тяжелым гулом появлялись они над развалинами. К бомбежкам прибавился вначале только артиллерийский, а потом и минометный обстрел. Как начнут совсем близко рваться снаряды или ложиться мины, мы упадем, переждем или продолжаем свой путь ползком. Мы уже редко возвращались в Дом грузчика. Доберемся ночью до какого-нибудь блиндажа, дамбы или туннеля, занятого жителями, попросим потесниться, а уж если нельзя, кое-как устроимся у входа и спим не то полусидя, не то полулежа. А чуть развиднеется, снова лазим по укрытиям и развалинам в поисках малышей. Шура отводила малышей на сборные пункты, а совсем маленьких несла на руках. Она уж больше не бинтовала свою руку. В горящие здания Шура меня не пускала: она умело обходила огонь, а когда надо было, ползла, раздвигая чем попало раскаленные угли. Мы снова насквозь пропитались гарью и почернели. Шура первая спускалась в подвалы, прыгала через завалы. На перекрестках улиц ловко перелезала через ежи, сделанные из обрубков рельсов. А иной раз подхватит меня, перенесет через трудное место или перетащит за баррикаду, сооруженную из трамвайных рельсов, вагонных колес, кроватей, диванов и телефонных столбов. Зато наступала и моя очередь быть первым, когда надо было пролезть в какой-нибудь узкий пролом в стене или заборе. Однажды в большом полуразрушенном доме взрывной волной завалило выход из подвала, в котором спасались многие жители соседних кварталов. Они не могли выйти наружу. Мы были рядом. Шура оставила меня одного. До меня из подвала доносились приглушенные стоны и крики. Над домом клубилось облако известковой пыли. Мне недолго пришлось ждать Шуру. Она вернулась не одна, а с целой командой дружинников — бойцов МПВО. Старшей среди них была невысокая девушка, повязанная красной косынкой. Шура называла ее Лидой. Все они ждали, что скажет пожилой дяденька, который с ломом в руке обошел здание кругом. — Ну как? — спросила его Лида. А дяденька только вздохнул и лег на землю у стены. Он погладил ее ладонью. И вслед за ним и другие дружинники дотронулись до стены. Будто все они, как врачи, ощупывали и выслушивали тяжелобольного. Потом дяденька ударил ломом по кирпичу. Удар за ударом. Он долго долбил стену. Сделает несколько ударов, остановится, чуть уляжется красная кирпичная пыль, он снова бьет. Все молча следили за ним. Наконец дяденька отбросил лом в сторону. Пробитая щель оказалась очень узкой. Голоса из подвала стали слышней. Среди них я услышал и детские голоса. «А вдруг там Оля?» — подумал я, посмотрел на Шуру, но ничего не сказал. Дружинники не спускали глаз с темной дыры, пробитой в стене. Я полезу, — сказала Лида и поправила сбив шуюся набок косынку. Это тебе не в Волгу нырять. Как ни тонка, а здесь застрянешь, — возразил ей дяденька и тут же внимательно смерил меня взглядом. Я сразу все понял: Позволь мне, — сказал я Шуре. Валяй! — ответил за нее дяденька и почему-то спросил: — А не неженка? Я встал перед ним навытяжку. Может, и был недавно неженкой, но кому-то лезть надо. Мне это всех сподручней. Шура не протестовала. Меня обвязали толстой веревкой. Дяденька объяснил, что я должен делать, и, не теряя времени, подсадил, или, вернее, всунул в щель. Мне мешали локти. Я вытянулся. Лезть было трудно. Не рассчитал свои движения и сбил колени. Шарил рукой. Веревка натянулась и сразу же отпустила меня. Я снова продвинулся вперед. Кирпичная пыль забилась в глаза. Они заслезились, а тут, к моей досаде, что-то попало и в нос. Я чихнул и вздрогнул от неожиданности, будто кто ударил мне в барабанные перепонки. Чихнул еще раз, и это меня рассмешило. Сам себе сказал «на здоровье» и замотал головой. Наконец я почувствовал, что щель кончилась. Веревка опять отпустила меня. Словно куда-то провалился, повис в пустоте. И вот опустил ногу. С радостью нащупал пол. Достал из кармана согнутую переломанную свечку и коробок спичек. На неровный тусклый огонек ко мне ползли измученные и искалеченные люди. Некоторые тяжело дышали. Кто-то простонал: — Как долго! И мне здесь не хватало воздуха. Я сказал, что скоро всех подымут. Сделал шаг вперед и заметил, что веревка снова потянулась за мной. Возле неподвижно лежавшей женщины копошился мальчик, маленький, как Оля. Он не плакал и не кричал, а только хрипел. Я взял его на руки. И вот мы у стены под щелью. Дяденька подал знак, чтобы я лез обратно. Веревка потянула меня. Я уперся ногой о стенку. На руках я держал мальчика, осторожно подталкивая его. Когда ботиночки коснулись моей груди, я понял, что сверху его уже схватили. Вслед за ним я сунул голову и вылез из щели. Как обрадовался я свежему воздуху! Открыл глаза и зажмурился от яркого дневного света. И вот я уже на ногах. Кружится голова. И я снова чихнул. На этот раз уже многие голоса разом сказали мне: «На здоровье!» А дяденька даже шлепнул меня по спине. — Генка! — сказала мне Шура, привлекла к себе и погладила по голове. Хотелось хоть глотком воды очистить рот и зубы от сухой пыли. Я напился, а потом рассказал о том, что видел в подвале. Меня еще раз спускали в подвал. Я оставил там фонарь и бидон с водой. Потом щель расширили, поставили подпорку. И теперь в нее первой «нырнула» худенькая Лида. Я никого не обманул, когда сказал в подвале, что всех поднимут наверх. Всем спасенным первым делом подносили воду. Они едва держались на ногах. Некоторых унесли на носилках. Шура попрощалась с Лидой. И вот моя рука снова в Шуриной сильной, большой руке. Она крепко держит меня. Сколько «особых заданий» получала она каждый день! Всегда кого-то разыскивала, передавала приказы, со многими людьми говорила совсем тихо, вполголоса. Шуру пропускали даже в штаб, помещавшийся глубоко под землей. Как-то раз, только вышла она из штаба и угостила меня конфетой, снова завыли моторы германских самолетов. Я уже знал, что сейчас оторвутся от них черные точки... К этому трудно привыкнуть. Хотелось хоть чем-нибудь прикрыть голову, даже ладонью. Шура прыгнула в окоп и мне протянула руку. Смотрю — рядом с Шурой стоит седая женщина в мужском пиджаке. Она раньше нас в окопе укрылась. Говорит, что искала питательный пункт: никак за ним не угнаться — с места на место переводят. В это время Шура высунулась из окопа и кому-то закричала: — Сюда! Сюда! И я увидел — бежит босая женщина с растрепанными волосами, прижимает к себе ребенка и не знает, где ей укрыться. Она обрадовалась голосу Шуры и подбежала к окопу. Шура взяла девочку. Женщина прыгнула и, увидев пожилую женщину, крикнула что есть силы: — Мамочка, родная, я жива! Мы даже про бомбежку забыли. А седая женщина точно захлебнулась, что-то хочет сказать и не может. А потом заплакала и спросила: — Доченька, Варенька, как же ты осталась жива?! А Любочка как? Тогда Шура передала ей Любочку, завернутую в обгоревшую кружевную накидку. — А я вот в кармане туфельки припасла для Лю бочки, — сказала она, прижимая к себе девочку. Ее дочь рассказала нам свою историю. Выехала она на пароходе, когда город еще был цел. Пароход шел вверх по Волге. Он недалеко ушел от Сталинграда. На него налетели гитлеровские летчики. Они потопили пароход и из пулеметов расстреливали людей. Много погибло женщин и детей. Только немногие спаслись чудом. Кормились сырыми мальками. Долго скитались, а вернулись в Сталинград — никого из родных не могли разыскать. Зато теперь они были счастливы. Хоть в окопе, а сошлись чудом все вместе: бабушка, дочка и внучка Любочка. Я был очень рад за них — ведь встречаются же родные. Шура тут же стала уговаривать наших новых знакомых уехать с Любочкой на левый берег и объяснила, какой дорогой лучше выйти к переправе. Мы первыми оставили окоп. Теперь уже Шура больше не говорила, что мне пора за Волгу. А если кто при Шуре спрашивал о том, сколько мне лет, она отвечала таинственно: «Столько лет, столько и зим». Без нее я не стесняясь прибавлял себе годик, а то и два и три. Так чувствовал я себя безопасней, потому что никто не собирал мальчишек, которые были на несколько лет старше меня. Ребята постарше возили с Волги бочки с водой, хлеб и сухари из пекарни; разносили листовки и приказы. Они, должно быть, чувствовали себя совсем большими, выполняя то, что раньше делали только взрослые. Шура редко отпускала меня от себя. Если же я не сразу попадался ей на глаза, она сердилась и ругала: «Куда тебя черт носит?» Как-то мы сидели рядом в столовой для детей, помещавшейся среди развалин. Сюда дети приходили из щелей и подвалов; больным же и раненым обед доставлялся «на дом» — в те щели и подвалы, где они лежали. Мы уселись на камнях вблизи глубокой ямы. Миски со щами держали на коленях. В одной руке у меня была горбушка хлеба, а в другой — ложка. Только я поднес ложку ко рту, как она ударила меня по зубам. Это где-то совсем близко разорвался снаряд. Я покачнулся, но все же удержался на камне. Зато миска лежала у ног. Шура удержала миску, но все равно и ее щи перемешались с землей. А мне что-то в глаз попало. Я поднял миску, ну, думаю, пойдем за добавкой, а соринку потом вытащу. Только я так подумал, как миска вылетела из рук, меня обдало волной жаркого воздуха и подбросило. Когда я очнулся, первым делом попробовал шевельнуть рукой. Казалось, меня кто связал или навалился сверху. Руки же словно застыли. Я втянул голову и только тогда сообразил, что не могу открыть глаза. Темно. Еще прошло какое-то время. Я осмелел и приподнял веки. Гляжу — рядом со мной земля колышется, а затем и Шура показалась. Вытряхивает землю из-за воротника гимнастерки. Только потом я сообразил, что мы закончили, наш обед в яме. Нас присыпало землей, недавно вырытой из этой ямы. Хотелось всего себя вытрясти. Я посмотрел на Шуру. Ее лицо было совсем серым. Вот и пообедали! Мы вылезли наверх. Я еще плохо соображал, где мы находимся, как услышал, что кто-то плачет. Шура, как всегда, протянула мне руку, а я сказал ей: — Слышишь, Оля! Шура прислушалась и побежала. Я же не мог бежать: как назло, ноги меня не слушались. Пока я ковылял, Шура уже добежала. Она наклонилась над окровавленной девочкой, лежавшей на земле. — Мама! Мама! — кричала девочка. Нет, это была не Оля. Сестренка моя совсем светлая, а у этой девочки темные волосы. Я сказал: — Спаси ее. Шура подняла девочку и понесла ее. Я все время отставал. Шура спешила. Она донесла девочку до самой поликлиники. Поликлиника размещалась среди развалин. Больные и раненые сидели на камнях, на кирпичных грудах, ожидая своей очереди. Шура передала девочку невысокой женщине в белом халате. Только я подошел, Шура говорит мне, показывая на камень: — Садись, я и для тебя очередь заняла. И сама села рядом. Я и не заметил, как в ее руке оказался маленький кусочек зеркала. Никогда не смотрелась, а теперь, вся напудренная серой пылью, не сводила с себя глаз. Она повернулась ко мне, широко раскрыв рот: — Вот видишь, самые передние выбило. А я все хвасталась, что зубы никогда не болели, — сказала она и пригорюнилась. А потом будто опомнилась. — О чем это я? Тут головы летят, а я о зубах толкую, дура беззубая! Когда дошла моя очередь, я спросил про девочку. Мне сказали, что ее отвезут в Красную слободу. Девочку будут лечить, девочка будет жить. Мне тоже помогли в поликлинике. Женщина в белом халате прощупала все мои косточки, все мои ребрышки пересчитала. Она слушала меня, а я любовался ее халатом. В Сталинграде после бомбежки у нас стали другими не только здания и улицы, но и деревья в садах и трава. Другим стало даже небо, а халат такой же, как и раньше, когда мама стирала и гладила для госпи
таля. В поликлинике нам дали лекарство в большой бутылке. У нас в Сталинграде в такие бутылки в последнее время разливали горючую жидкость для гитлеровских танков. Нам же налили в нее целебную микстуру — для успокоения, после того как мы полетели вверх тормашками, — пить мне и Шуре три раза в день по столовой ложке. А где ложку достать? Шура поручила мне таскать бутылку, но даже не вспомнила о ней, когда я оставил ее на подоконнике одного уцелевшего пустого дома. В последние дни уже была слышна стрельба из автоматов, особенно со стороны вокзала. Как будто вдруг ни с того ни с сего сотни барабанщиков начинали выбивать дробь... Фашисты рвались к центру города. На рассвете мы прошли Метизный и вышли к железнодорожному полотну, проложенному у Мамаева кургана. Жили мы раньше среди гудков. То заводы смену гудят, то пароходы перекликаются на Волге, а совсем рядом, под самыми окнами, гудят паровозы, на стыках рельсов стучат колеса рабочих поездов, раздаются свистки составителей, лязгают буфера. А теперь только снаряды и мины, сверля воздух, с протяжным воем проносились над нами. По обе стороны рельсов мы видели людей — кто из укрытия выглянет, кто к туннелю спешит. Женщины с разной посудой в руках шли на бугор к роднику за водой. Здесь оставались жители, уже давно перебравшиеся из своих небольших домишек у подножия Мамаева кургана в щели и блиндажи, за железнодорожное полотно. Все то же «особое задание» привело сюда Шуру. В одном из блиндажей мы задержались дольше обычного, вроде как на привале. Вначале и здесь Шура уговаривала женщину, которая расчесывала гребнем свои пышные темные волосы, перебраться вместе с детьми за Волгу, где всем будет безопасней. Женщина, назвавшая себя Феклой Егоровной, объяснила, что живет она здесь вместе с подругой, Александрой Павловной, которая теперь только спать приходит в блиндаж, а днем и ночью вывозит муку с мельницы, пожары тушит. У нее пропуск по всему городу. Про себя же Фекла Егоровна рассказала, что она за детьми смотрит. А старший сын ее, Вовка, Александре Павловне помогает. — Мы с Александрой сдружились. У меня два мальца, у ней две дочки. Она заплетала свои густые волосы в косы, заплетала не торопясь и так же не спеша, тихим голосом возражала Шуре: мол, как же уезжать за Волгу, когда бомбят переправу, куда уезжать, когда все равно наши бойцы фашистов за Волгу не пустят и Сталинград не сдадут. Фекла Егоровна хвалила блиндаж и говорила, что они запаслись зерном; бойцам, штаб которых в мясокомбинате, они не мешают, а даже наоборот, кому что сварят, кому постирают... А блиндаж был действительно хорош и как-то прочно сколочен. Пахло сосной. Пол был устлан досками. На гвоздях висели кастрюли. И рядом с ними — часы-ходики. Фекла Егоровна объяснила, что все это соорудил, обстругал и даже тяжелую дверь на петлях повесил муж Александры, плотник, фронтовик. После ранения дали ему отпуск для поправки, вот он незадолго до бомбежки в Сталинград приехал, но не пришлось ему в своем доме пожить («его отсюда видать»). Теперь блиндаж домом стал. Я сидел на койке, сколоченной из досок. Подо мной был матрац из мешковины, набитый соломой. Я облокотился на подушку, и очень мне захотелось хоть на минуточку вытянуться и опустить голову... — Уморился, — сказала Фекла Егоровна, взбила подушку, заставила улечься поудобней и даже покрыла мягким, пушистым платком. Думал, полежу немножко, — только маленькие днем спят, а мне стыдно. Засыпал и слышал, как на такой же койке напротив и у дверей возились малыши. Потом я почему-то забыл все, что произошло недавно, и начал ждать, что сейчас подойдет мама — тогда можно будет и заснуть. ...Мне снилась баня, будто дяденька опять трет мне спину, потом открывается дверь и входит слон, садится на скамейку. Хоботом он пододвигает к себе шайку, опускает в нее ногу, достает еще одну шайку и опускает в нее другую ногу... Я никак не мог оторвать голову от подушки; будто и просыпаюсь, а глаза не размыкаются. Слышу я, Шура спрашивает, а ей отвечает мужской голос. Сколько сразу интересных названий! В каком-то Невеле их разгрузили, а потом он дрался под Великими Луками, отступал на Торопец, а ранило его под Андреаполем; из Кувшинова отвезли в Бологое, а оттуда санитарный поезд доставил в Иваново, а из Иванова, через Москву, вернулся он в Сталинград. «Невель-Торопец», «Невель-Торопец», — повторял я про себя и снова начал засыпать, как вдруг койка подо мной зашаталась, и я полетел, но не вниз — меня подбросило чуть ли не под бревенчатый потолок. Детишки притихли. Фекла Егоровна села рядом с ними. А Шура и дяденька в военном (я еще спросонок понял, что он и есть «плотник-фронтовик») стали у двери. — Как в августе, — сказала Шура. Я тоже выглянул из блиндажа. Фашистские бомбардировщики летели черной тучей. Уже многое научился я понимать в этом грохоте и треске. Наши из-за Волги отвечали гитлеровцам. Я стоял на ступеньках, когда увидел: к блиндажу бежит женщина в военной гимнастерке с засученными рукавами, подпоясанная широким- красноармейским ремнем, а за нею — длинноногий, худой мальчишка. Я поскорей нырнул в блиндаж, чтобы дать им дорогу. Это и были Александра Павловна и Вовка, старший сын Феклы Егоровны. Александра Павловна, вся раскрасневшаяся, потянулась за кружкой, отпила несколько глотков и передала кружку Вовке. — Горит мельница, горит... И нашу телегу пере вернуло, лошадь убило; их автоматчики вперед лезут, до чего нахальные. Туда уж не пройти. Шура посмотрела на меня. Я подумал: «Туда не пройти, а мы пройдем». Шура сказала необычно громко: — Гена, ты останешься здесь. Это свои люди, тебя не обидят. Гена будет у вас пятым. Фекла Егоровна даже пододвинулась на койке, где она сидела с детьми, — мол, занимай, Гена, свое место с левой стороны! Только я хотел спросить Шуру, долго ли мне придется здесь ее ждать, как она сама сказала: — Все узнаю — приду. Опять Олю будем искать. А ты от этих людей — никуда! Шура хотела распрощаться со всеми; военный же остановил ее: — Раз уж так, пойдем вместе. Документы при мне, пилотка на голове. Вот и вышел срок моему лечению. Он быстро собрал кое-какие вещи — бритву, кисточку, даже сунул в вещевой мешок белую баночку с какой-то мазью. — Дядя Ваня, а ты бей их, как я комаров в лесу, — посоветовал ему Вовка. Фекла Егоровна все порывалась что-то сказать, но тетя Александра строго на нее посмотрела. — Всё наспех, всё наспех. Ведь это не чай пить! — пробурчала Фекла Егоровна. Уж как водится, все мы присели на койки и немного помолчали. А потом поднялись. Военный поцеловал своих девчонок, Феклу Егоровну, Вовку и его братишку и меня заодно поцеловал прямо в лоб, а потом крепко — Александру Павловну. Мне тоже было тяжело оттого, что Шура уходит из блиндажа без меня. Я выглянул из блиндажа им вслед. Уже стемнело, и небо стало багрово-красным. Они шли в сторону заводов, к мясокомбинату (а там и «Красный Октябрь» рядом). Военный слегка прихрамывал, и Шура сдерживала свой шаг. Только уселся я на койку, как тетя Александра Павловна накинулась на всех: — Ну, чего приуныли? Марш умываться! — при казала она Вовке. Я же посмотрел на ходики и вспомнил, что уже давно не заводил свои часы. Но ходики тоже стояли и даже сдвинулись набок. Я все же достал часы из сокровенного карманчика, который пришила как-то Шура с внутренней стороны моей рубашки. Достал и принялся заводить, поглядывая на Вовку. — Покажи, — попросил он. По случаю знакомства я дал Вовке подержать часы, а потом завел их и наугад поставил стрелки. Вовка тоже поправил ходики и потянул гирьку. А потом наклонился ко мне и негромко, чтобы мать не слыхала, спросил: — А это видел? В его руке была «штучка», похожая на грушу. Я уже знал, что это не игрушка, а ручная граната. — Карманная артиллерия! — с важностью произ нес Вовка и опустил гранату в карман. Еще долго рвались снаряды. За толстыми стенами блиндажа было хорошо слышно, что бой идет где-то совсем близко. В блиндаж забежали два бойца. Они попросили воды, а когда напились, рассказали, что гитлеровцы заняли вокзал, захватили центр города, вышли на набережную к памятнику Хользунову, и Дар-гора в их руках. А здесь уже — передовая. Александра Павловна взяла на руки свою дочку Агашу, откинула волосики с ее лба, посмотрела в глаза и тихо сказала: — Гадали, думали за Волгу ехать, а оказались на передовой. Опоздали. Теперь и вовсе к переправе не доползти. — Она опустила девочку на пол: — Вот потому и незачем было Ивана удерживать. Если уж так пришлось, пусть свое место займет, где прикажут! Шура не возвращалась. Я все ждал — откроется дверь, она нагнется и войдет, возьмет меня за руку.. . Я сердился на нее и ждал. И даже подумал, а не обижается ли мама — ведь кто мне Шура? Почему же я так скучаю без нее? Мама же, с которой я так часто разговаривал про себя, ответила мне на это: «Нет, сынок, не обижаюсь. Она твой друг, она твой командир». А потом мама начинала расспрашивать меня про другую тетю Шуру, про Феклу Егоровну и даже про Вовку. И я тут же отвечал: «Другая Шура — Александра Павловна — мне тоже понравилась, хотя она и не обращает на меня никакого внимания». Ее адъютантом был и остался Вовка. А меня она, должно быть, считала маленьким, а всеми маленькими в нашем блиндаже заведовала Фекла Егоровна. У Агаши была старшая сестра — остроглазая Юлька, лет пяти — шести. Она не любила сидеть на одном месте, рвалась из блиндажа наружу, за что не раз получала от своей мамы подшлепник. «Люби, как душу, а колоти, как грушу!» — приговаривала в таких случаях Александра Павловна. Эти же слова повторяла Юлька, поучая свою куклу. Кроме того, Юлька воспитывала и Агашу. Жили девочки в блиндаже, но не было среди них .Оли. Я показывал им все, что знал, все, чем дома забавлял сестру. Братишка Вовки, щекастый Павлик, сладко спал под звуки канонады; его еще кормили из бутылочки. Я стал помощником Феклы Егоровны. Мерцает фитилек, а я сижу у ящика и пропускаю через мясорубку пшеничные зерна. Фекла Егоровна стряпает на печурке, а я Павлика на руках качаю и за девчонками присматриваю. Еще недавно, когда с Шурой по всему Сталинграду лазили, как ящерицы, я не думал об опасностях, а здесь, в блиндаже, начал ни с того ни с сего вздрагивать: то становится страшно — а вдруг завалит нас всех, то думаю, как бы с Александрой Павловной и Вовкой чего не случилось. Уйдут они, и начнет Фекла Егоровна беспокоиться: «Где их, окаянных, носит!» Взгляну я на Феклу Егоровну, а у нее в глазах слезы. Должно быть, поэтому она расчесывала часто свои волосы, прикрывая ими глаза. Но я не видел, чтобы Александра Павловна расчесывала свои коротко подстриженные прямые волосы. Разве что проведет по ним рукой, откинет назад голову — вот и вся ее прическа. Недаром она говорила: «В драку идти — волос не жалеть!» Александра Павловна очень любила теребить Агашкины кудряшки. Девочка только ходить научилась. Бывало, приляжет Александра Павловна на несколько минут, протянет Агаше руку, поддерживает ее, а та по матери разгуливает. На лице Александры Павловны, если приглядеться, можно было различить небольшие рябинки. Такая, видно, была она нетерпеливая, когда ветрянкой болела. Она теперь редко оставалась спокойной; за- льется краской, заблестят глаза, и рябинки ее исчезают. Останемся мы одни в блиндаже — как-то не по себе, тоскливо, а вернется Александра Павловна с Вовкой — сразу станет светлей. Вовка приходил, всегда громыхая; снимал с головы каску, доставал из карманов пуговицы, куски сахара и спички. Он всегда рассказывал, где что видал и слыхал. Торопился сообщить все новости. — У Московского моста дальнобойную поставили. Командиры командуют: «Натянуть шнуры!» Он, Вовка, под вагоны лазил, показывал разведчикам, как лучше сопку обойти, а потом артиллеристам к орудиям траву таскал — нужна для маскировки вместо выгоревшей. Фекла Егоровна тревожно смотрела на сына. Слушала она его с удивлением и страхом, покачивая головой и вздыхая. Кругом смерть, а ему все нипочем; всегда чему-то радовался, всему удивлялся. Уходя из блиндажа, он обводил нас всех взглядом: «Я, мол, ухожу на рекогносцировку», или же торжественно произносил: «Славяне, нас много, и мы победим!» Когда мать просила его быть осторожным, он успокаивал ее: — Не буду покойником, буду полковником. Однажды он пришел огорченный: один артиллерист, ведя стрельбу, все время называл фашистов «рыжими». Хоть бы на меня взглянул! —обижался Вовка. Ты рыжиком стал потому, что тебя солнышко любит, — утешала его Александра Павловна. Все ладилось в ее руках. Взяла топор, пилу-ножовку и соорудила в блиндаже второй этаж — подвесную полку для детворы. В уцелевшей печи разрушенного сожженного дома решила Александра Павловна испечь хлеб. Как только не отговаривала ее Фекла Егоровна: — Ведь убьют тебя. Обойдемся без хлеба, хватит нам лепешек. — Ничего со мной не будет, заруби себе это на носу! — Смотри, на рожон лезешь. Место ведь открытое. — У меня свой расчет. Александра Павловна ушла из блиндажа перед рассветом. Утром меня разбудил домашний запах свежеиспеченного хлеба. Александра Павловна сидела на койке и дергала Юльку за косички, то за одну, то за другую. — Мама, дай горбушку, — просила Юлька. Мне так запомнился вкусный запах хлеба потому, что с тех пор, как начались бои у Мамаева кургана, мы дышали только одной гарью. Мы видели, как загорелся домик Александры Павловны. Она стояла на ступеньке у входа в блиндаж и не отрываясь смотрела, как подпрыгивало пламя и клубился сизый дым над домишками у подножия кургана. Она стояла, неподвижно следя за огнем, будто окаменела. А потом громко выругалась. Все оглянулись, а Юлька заплакала. Александра Павловна подошла к Фекле Егоровне, улыбнулась ей и сказала: — Вот и мне небо с овчинку показалось. Недаром говорят: «Своя хатка что родная матка». Теперь мы с тобой как перепелочки. — Хорошо, хоть Иван твой не видел, как добро пропадает. Ведь все своими руками. — «Жила бы Совреспублика, а мы-то проживем», — так в гражданскую войну говорили, — ска зала Александра Павловна и провела рукой по гитаре, висевшей на крюке, вбитом в стенку. Гитара коротким звоном отозвалась ей. Александра Павловна обвела нас всех глазами и ласково сказала: — Погорельцы мои! Перед блиндажом метались выскочившие неизвестно откуда горящие козы. Они дымились, как головешки. Их пристрелили и потащили на красноармейскую кухню. Сгорел домик Александры Павловны. А печка уцелела. — То, что для огня, огонь не трогает, — деловито объяснил Вовка. Я сидел у блиндажа, окунал в кадку с водой ватные стеганки и обкладывал ими дверь. Было жарко, даже воздух и то обжигал. Самому сейчас не верится — неужели это все так и было?! Всем известно, какие тяжелые бои шли за Мамаев курган. Мы жили в самом пекле. Второго такого еще не было на земле. Со всех сторон подошел фронт к подножию кургана. Позиции наших бойцов каждый день менялись. Александра Павловна и Вовка и то, должно быть, путали, где штаб дивизии, а где батальона. Все было рядом. До нас уже и немецкий разговор доносился. И не я один, но и другие гражданские люди все это видели и пережили. И тогда больше всего удивляло сталинградских воинов, что на самой первой линии, в земляночках и блиндажах, встречали о ми женщин с малыми детьми. У Феклы Егоровны всегда была наготове иголка с ниткой — зашить бойцу рваную гимнастерку. В блиндаж приносили раненых. Одни подползали сами. Другие, бледные, шли в рост, но, не осилив последние метры, падали, теряя сознание у самого блиндажа. Александра Павловна и Вовка теперь уже не перебегали, не пригибались к земле, а ползли по-пластунски. Они тянули раненых на плащ-палатках и шинелях. Юлька и Агаша притихли. Только Павлик ни с чем не считался. Фекла Егоровна качнет его разок-другой, а сама спешит к раненому, снять с него окровавленную рубашку. Она часто смазывала раны рыбьим жиром. Смазывала и шептала: — Сынок, потерпи, потерпи, родной. Не раз я замечал: Фекла Егоровна успокаивала людей, а у самой в глазах слезы. Добрая она, каждому хотела сказать что-нибудь хорошее. Разные раненые бывали. Некоторым и больно, а они посмеивались. Один пришел, говорит: — Ой, в сердце! Моя Дунька не узнает, что меня убило. А Фекла Егоровна ему: — Врешь, не помрешь; если бы в сердце, так бы не стоял. Я стал замечать, что Фекла Егоровна и строга бывает: «Нечего нюни распускать, у тебя пустяк!» Или скажет уверенно: «Раз кость цела, мясо нарастет». Однажды Александра Павловна притащила на плечах раненого. Оставила его, а сама обратно, на склон кургана. Боец все рассказывал о себе. Был он пчеловодом, поэтому про пули и осколки сказал: «Жужжат они и кровь собирают». Он все хвалил какого-то сибирского пчеловода, который орденом Ленина награжден, и говорил о том, что, если останется жив, тоже с одного улья тридцать пудов меда возьмет. Он схватил Феклу Егоровну за руку: «Дай я тебя поцелую!» А потом застонал. Видно, стало ему тяжело, и он приуныл, замолчал. Фекла Егоровна очень расстроилась. За всех етрадала она. Бывало, как загрохочет особенно сильно, сядет у самой двери, словно для того, чтобы ^сех нас прикрыть и защитить своим телом от °сколков. По временам страшно хотелось спать, вытянуть ноги, примоститься, свернуться. А приходилось сидеть. Я бывал доволен, когда удавалось расправить руки или упереться ногами в стенку. Устроишься кое-как, но ненадолго. То чувствуешь над головой чью-то ногу, то в живот упирается чей-то локоть. Хлеба, который испекла Александра Павловна, уже давно и в помине не было. Придет кто в первый раз, увидит все наше большое семейство, спросит: — Как же это вы здесь остались? Александра Павловна не любила такие расспросы, — то ничего не ответит, а то коротко скажет: — На вас надеемся! Однажды смотрел на нас один боец, смотрел, а потом сказал своему товарищу, словно вырвалось у него: — Вот так где-то и наши. Много людей перебывало в нашем блиндаже. Приходили совсем усталые, молчаливые, вбегали, обтирая пот с разгоряченного лица. Я понимал, что им на кургане очень жарко. Они остывали после боя, снимали сапоги, разматывали портянки, переобувались. Автоматчики набивали патронами круглые диски. Я как-то поднял такой диск, и он показался мне очень тяжелым. Тем, кто никогда раньше не бывал в нашем городе, Александра Павловна и Фекла Егоровна любили про Сталинград рассказывать, и Юлька старалась свое словечко вставить про то, как она с отцом побывала в цирке Шапито, и про слона, который не «кукуиро-вался». Бойцы приносили нам сухари, гороховый концентрат и угощали кусочками сахара весь наш «детский сад». Кроме того, мы грызли, как морковку, сырую тыкву. Я любил слушать, как бойцы про свои письма рассказывали. Один снайпер письмо прочитал и тут же молча передал своему товарищу. А тот только взглянул и сразу же с Феклой Егоровной поделился: — Посмотрите на него, теперь петухом ходить бу дет: у него сын родился. Фекла Егоровна сразу же снайпера поздравила. Я так и знал, что она прослезится. Другой боец прочитал в письме, что грибов много уродилось, а Фекла Егоровна заметила: «Раз грибов много, война еще продлится». Я и подумал: «Если так, пусть лучше никогда на свете грибов не будет». А самое главное, понял я, что уже давно должен был с помощью Шуры написать своему папе, но тут же с горечью подумал: а куда писать? И письма нам читали и фотокарточки показывали. Фекле Егоровне все жены, подруги и детишки нравились. Один связист, часто бывавший в нашем блиндаже, достал из кармана маленькую фотокарточку: — Вот мой альбом! Мы увидели лицо молодой женщины с большими глазами. И платье ее было в крупных горошинах. Должно быть, они тоже были синими, как на мамином платье. Жена, Надюша! Моей старушке двадцать два года, — сказал связист и бережно спрятал фотокарточку. С плоскогубцами он побежал «на линию». Какая красивая эта Надюша! — сказала Фекла Егоровна. На этот раз я вполне с ней был согласен и решил, если вернется связист, попрошу его еще раз показать : «альбом». Как жаль, что Фекла Егоровна не видела мою маму! Запомнился мне один артиллерист. Как я обрадовался, когда увидел у него хорошо знакомую мне вещь! Он вытащил из футляра бинокль и стал проти-'' рать стекла. Я подсел к нему и попросил: — Можно посмотреть? Я встал на ступеньку и снова посмотрел в бинокль. — Отчего же нельзя? — сказал артиллерист и про тянул мне бинокль. Я держал его в руке и сразу же вспомнил наш маленький, который остался дома. А это был настоящий военный бинокль. Только бы не уронить. Я посмотрел в него, но ничего не увидел. Тогда я отодвинулся, перевернул бинокль и приложил к глазам большие стекла, наводя их на рукав артиллериста, — там на нашивке перекрещивались серебристые стволы, — но опять в глазах только запрыгали темные круги. Я огорчился, а артиллерист сказал: — Держи крепче. Он вывел меня из блиндажа. Я встал на ступеньку и снова затаив дыхание посмотрел в бинокль. Артиллерист же подкрутил его у меня в руках. Бинокль сразу ожил; его трубки то раздвигались в стороны, то отодвигались вперед и назад. Наконец-то я прозрел и увидел перед собой крупные ветки кустарника; колеса вагонов, стоявших на пути, сразу же ко мне приблизились — того гляди, попадешь под вагон. Я бы долго еще смотрел не отрываясь, но Фекла Егоровна позвала в блиндаж. Это было только начало моей дружбы с артиллеристом. Он не спешил, сказал, что пробудет у нас до самой темноты. Я не сводил с него глаз и особенно интересовался его имуществом. На койке лежал еще один футляр в чехле. Он принес с собой катушку провода и что-то завернутое в плащ-палатку. Вовка все рассказывал артиллеристу про курган, ложбинки и овражек, а тот даже карту на коленях разложил: то Вовку спросит, то на карту посмотрит. Вовка же то и дело подскакивал к Фекле Егоровне и шептал ей на ухо так, что всем было слышно: Он на огневых сидеть не любит. Он разведчик самый главный и знаменитый. Ну уж и знаменитый! — удивился артиллерист и сам рассказал Фекле Егоровне, что он из Москвы, там и родился, а дома уже давно не был. Должен был осенью сорок первого года в Москву вернуться, а тут война началась. Фекла Егоровна его о родных расспросила и посочувствовала. — Вот бы матери на тебя поглядеть! — сказала она и так сама взглянула на артиллериста, будто знала его давным-давно. Вовка же все шептал ей: — Он еще в Финляндии «гастроли давал». Ви дишь, на ордене эмаль отбита. Мне очень фамилия москвича понравилась. Когда он назвал себя Орловым, я тоже представился: — А я Соколов! Он приходил к нам всегда под вечер, то один, то с радистом. Вовка, часто бывавший у артиллеристов, рассказывал о нем самые удивительные вещи: то Орлов из винтовки «Юнкерс-87» одномоторный сбил; то совсем недавно пять немецких автоколонн обнаружил... Орлов же об этом никогда ничего не рассказывал. Придет, что-нибудь разматывает, протирает. В бумажках любил рыться, маленьким карандашиком на каком-то листке птички ставил, а иногда при этом и громко напевал. Ни одной песни он не пел до конца; то одну начнет, то другую, и все они были у него почти на один мотив. Только затянет «Скрылось солнце за горами», как сразу же переходит на «Карие глазки». И вот однажды он снял чехол с футляра, раскрыл его и бережно достал что-то обложенное ватой, завернутое в тряпки и в измазанную землей марлю (это, как я узнал потом, — для маскировки). Он раскрыл марлю, и я увидел две соединенные трубы с блестящими стеклами наверху. — Прошу любить и жаловать: стереотруба! Мы сразу же вышли наружу. Орлов установил стереотрубу в окопе у блиндажа. Он повернул трубы в сторону Волги. Я смотрел в стереотрубу снизу, а ее «глаза» чуть выглядывали из окопчика. Вначале передо мной было два круга. Орлов подкрутил — и оба круга слились в один, и все далекое стало таким близким! Что там бинокль! Прямо передо мной лежала железная бочка. Мне показалось, что стоит только протянуть руку, я достану до нее, постучу по ней, и если она пустая, то сразу же зазвенит. А что, если фашисты сейчас на нас смотрят и видят так же ясно, как видел я, чучело на огороде и зазубренные края битых кирпичей? Орлов поторопил меня. С неохотой оторвался я от стереотрубы. Чуть резануло в глазах. После, в блиндаже, Орлов долго рассказывал мне о работе артиллерийского разведчика. Я слушал и думал: «Если бы я уже был взрослым и воевал с фашистами, обязательно стал бы таким же, как он, человеком-невидимкой». Как это здорово — маскироваться от врага, а самому все видеть и вычислять, поворачивать трубу, понимая все черточки и полоски на стекле. Вот это глаза! Все увеличивают во много раз. О них бы петь, а не о «карих глазках». Смотреть в сторону врага мешал курган... А Орлов пробирался в тыл врага на другой склон оврага и оттуда тоже видел далеко-далеко. Вовка носился с пистолетами, гранатами; раздобыл себе трофейный парабеллум, а мне очень по душе пришлись бинокль и эти трубы. Орлов уходил от нас после того, как в блиндаже зажигали лампу, сделанную из снарядной гильзы. В вечерние и ночные часы у нас было особенно людно. Заходили разведчики, связисты, подносчики термосов, письмоносцы; медсестры и санинструкторы уносили раненых. Однажды мне не спалось. Вышел из блиндажа. Все трещало, содрогалось и грохотало. Огонь клубился по изрытой земле. Пахло порохом, но зато куда ни глянешь — столько огней, и все такие разные: красные, зеленые и совсем белые. Они бежали наперерез Друг другу, сливались, кружились, мигали. Светящиеся точки чертили небо. Вспыхивали ракеты, заливая все белым светом. А я думал об Орлове и связистах. Должно быть, когда горят эти «висящие лампы», они припадают к земле, а когда гаснут огни, снова пробираются и ползут на свой наблюдательный пункт. Орлов всю ночь будет следить за белыми вспышками орудийных выстрелов, он узнает, откуда ведут огонь шестиствольные минометы. И днем я словно был рядом с Орловым и вместе с ним смотрел в чудесные стекла; видел вражеские блиндажи, танки, дымящиеся походные кухни и серые фигурки солдат с котелками. Обо всем этом мне рассказывал Орлов. А когда надо мной в воздухе шелестели наши тяжелые снаряды, ухо улавливало вначале свист, а потом удары и глухие раскаты далеких взрывов, — я был уверен, что это Орлов вызвал «огонек» наших дальнобойных орудий и точно указал своим друзьям-товарищам цель. Может быть, он только что видел, как они угодили прямо в эту цель. А если нет, высчитает точней, сообщит данные на огневую позицию своей батареи, и новый снаряд попадет наверняка. Прямое попадание! Как-то Орлов вернулся перед рассветом. Я сразу же проснулся. Как я его ждал! Он пришел усталый, с покрасневшими глазами, и первым делом, как и другие, попросил воды. Снял гимнастерку и тряс ее за дверью. Ему поливала Фекла Егоровна. Он мылся очень долго и старательно. Тщательно тер шею. И тут уж не Вовка, а сам рассказал о том, что с ним было. Командир батареи приказал ему пробраться в тыл к немцам, по ту сторону кургана. Орлов залез в траншею, забитую трупами. Там он лежал, распластавшись, среди мертвецов много часов, не подавая признаков жизни, зато все видел и засек важные цели. — Вот какая карусель! — закончил он свой рас сказ. — Вы от меня, Фекла Егоровна, подальше бы, пока я еще как следует не проветрюсь. Чем я там только не надышался! А Фекла Егоровна подошла к нему, провела рукой по волосам и сказала: — Черноволосый ты наш, а волосы-то жесткие! Орлов достал из планшетки чистый подворотничок и, не позволив Фекле Егоровне взяться за иглу, сам пришил его к гимнастерке, приговаривая: — Чистота — залог здоровья! Фекла Егоровна все переживала его рассказ и удивлялась: — Как же это ты так? Орлов ей ничего не ответил, а только снял гитару, настроил ее, обвел взглядом всю нашу проснувшуюся детвору и ударил по струнам, как настоящий артист-гитарист. Он запел полным голосом, совсем не так, как раньше: Слети к нам, тихий вечер, Начался новый день, и в воздухе заурчали моторы фашистских бомбардировщиков. — Опять, черти картавые, по головам ходят! — с досадой сказала Фекла Егоровна. Она уже не слушала Орлова, и ему не пришлось допеть песню. Одной рукой он водворил гитару на место, а другой — потянулся за винтовкой, стоявшей в углу. Он заторопился, пригнулся, приноравливаясь к винтовке, и выбежал из блиндажа. Я уже знал, что Орлов с колена целится сейчас вверх на два фюзеляжа вперед, чтобы пуля попала в самое брюхо пикировщику. Часто навещал наш блиндаж сержант-бронебойщик. Лет ему было много, все его лицо, даже подбородок были прочерчены глубокими морщинами, похожими на канавки. Он плотно натягивал маленькую пилотку, но все равно казалось, что она держится на его большой голове каким-то чудом. Мне запомнились его большие, широкие руки, похожие на лопаты, и глаза, чуть прищуренные, всегда насмешливые. Они тоже были даны ему явно не по размеру, по сравнению с его широким скуластым лицом. — А ну, кто тут живой, проснись! — кричал сер жант еще издали. Ему трудно было говорить шепотом. Он никогда не отделывался общим поклоном. Даже с Павликом у него был свой разговор: почему-то называл его «открыточкой». Если Павлик начинал плакать, сержант потирал руки и говорил с восхищением: — Люблю слушать, как он плачет! Когда однажды Павлик вдруг заголосил, бронебойщик заглянул ему в глаза и сказал: — Вот не люблю, когда кричат, люблю, когда сам кричу. Часто навещал наш блиндаж сержант-бронебойщик. Все мы, видно, приглянулись сержанту. Агашу он называл «потешницей», а Юльку -— «барышней». «А как бы он Олю назвал?», — думал я. Мне было жаль, что я часто дразнил свою сестру «плаксой-ваксой». — А ты все с девочками сидишь, — сказал мне сержант и тут же, чтобы я не обиделся, добавил: — А ты, молодчага, не огорчайся, зубы-то у тебя во рту молочные, вот подрастешь, тогда и мне поможешь ружье таскать! Он приносил нам разные гостинцы; сам протирал ложки, доставал концентраты и немецким тесаком открывал консервные банки и при этом что-нибудь приговаривал: — Суп гороховый, суп прозрачный, суп пюре- образный. Закончив приготовления, он требовал, чтобы все мы ели вместе с ним. Никто не отказывался, а он говорил: — Люблю такую компанию! Всех угощал, а сам протягивал пустую консервную банку Фекле Егоровне: — Чашечка красива прибавочки просила! Ел он не торопясь, а закончив еду, стряхивал хлебные крошки с колен и всех нас благодарил: Вот и хорошо! Настроение хорошее, обедом уго стили, а теперь пора и ужинать. — Он хлопал себя по животу и улыбался, подмигивая надутой Юльке: Людей без рук и без ног видел, а без живота еще не пришлось. Однажды он достал кисет, вышитый цветочками, мундштук и аккуратно скрутил большую самокрутку; солидно покашлял и начал рассказывать про то, как в царской армии проходил он службу и в прошлую войну с немцами воевал. Рассказы свои он называл «брехней». Запомнилась мне его «брехня» о том, как солдаты насыпали в пушку пятнадцать пудов пороху и пятнадцать пудов солдатских пуговиц и так ударили по врагу, что остались от него только рожки да ножки, как в сказке про козлика. А в другой раз старый сержант рассказал о том, как он два танка противогазом уничтожил и верхом на коне подводную лодку потопил. Рассказывал он, рассказывал, а как-то запнулся, сразу потухли веселые искорки в его глазах. Мы ждем, что же дальше будет, но вдруг слышим: храпит наш сержант. Фекла Егоровна ему что-то под голову подложила. Как раз в это время Александра Павловна с Вовкой вернулись. Александра Павловна сразу же сапоги с бронебойщика стянула. Он только улыбнулся во сне, чуть приподнял голову, посмотрел на всех, а потом удобнее вытянул ноги и снова заснул. А когда проснулся, вскочил, как по тревоге, но, узнав, что спал он совсем недолго, начал не торопясь разглаживать свои портянки и Александру Павловну благодарить. Он называл ее «землячкой» за то, что она, когда ездила на Камчатку работать на рыбные промыслы, Урал его проезжала. А она называла сержанта по имени-отчеству — Петром Федотовичем. Петр Федотович натянул сапоги, пристукнул каблуками и признался, словно по секрету: — Грешен человек — люблю поспать, хотя это и смерть для молодого человека. А все потому, что во сне вижу мирную жизнь и с Марусенькой своей раз говариваю, поцеловала она меня в левую щечку и исчезла. Хорошая она у меня тетка. Когда бы ни приходил сержант, он каждый раз вспоминал о доме. Мы уже знали, что жена его Марусенька шибко чистоту любит: то потолок скребет, то пол скоблит, чтоб доски были желтые и пахли сосной; знали, что дочь сержанта, Наденька, — баловница, в этом году первый раз пошла в школу, и он хотел бы посмотреть, как она за партой сидит, а три сына его воюют на разных фронтах, а от одного из них уже давно нет известий. Задумается, бывало, сержант, нахмурит свои густые выгоревшие на солнце брови, а потом улыбнется так, что, кажется, и нос у него смеется. — Кончится война, заявлюсь домой, войду и скажу: а кто тут живой, встречайте! Недаром бойцы, приходившие к нам в блиндаж, называли сержанта кто «отцом», кто «батей», а кто просто «товарищ парторг». Хороший был он человек, добрый, и нас, детей, любил. Только было мне удивительно, почему он усы не отрастил. Вот сказал он: «Вернемся домой, замычит корова, шарахаться будет с непривычки», — и покрутил бы ус. Такому человеку усы просто необходимы. А он без них обходился и скучать никому не давал. Как скажет: «Воевать так воевать! Голову высоко держать и грудь вперед!» На левой стороне гимнастерки он носил серебряную медаль «За отвагу». Натянет он свою скомканную пилбточку на голову, а каску за ремешок возьмет и говорит всем на прощание: — Довольно болтовней заниматься, пора и воевать. Стар я стал, попадать не стал. Но все-таки больше туда, чем мимо. Когда долго не приходил сержант, Александра Павловна сама его навещала, относила ему воду и всем нам от него по очереди поклоны передавала. Она рассказывала, что лежит он со своими людьми совсем недалеко от нас, у самой лощинки, и ружье свое противотанковое, длинное-предлинное, укрыл среди бревен и кирпича. Наступило еще одно дымное утро. Как всегда, фашистский разведчик «Фокке-Вульф», всем известная «рама», или, как говорили тогда, «костыль-горбыль-кривая нога», появился над нами. Вот уж кого легко было распознать! Он не летал, а именно плыл в воздухе. В «раму» били наши бойцы кто из чего мог; иногда она забиралась в высоту, а чаще опускалась и обстреливала из пулеметов наши окопы. К этому мы уже привыкли, как и к тому, что начинался день и солнце скрывалось за тучами пыли и дыма. Все мы закоптились, пропахли чем-то жженым, удушливым. Пули и осколки взметали черную высохшую землю. Отрывисто трещали вражеские автоматы. Им в ответ стрекотали наши пулеметы. И так целы-й день над нами хлестали пули, с диким ревом и свистом летели тошнотворные мины. Как начнут они грохотать то спереди, то сзади —-значит, сам Гитлер залаял и заквакал. Голова становилась тяжелой-претяжелой, как будто кто коловоротом сверлит или заколачивает в голову гвозди. Я научился тогда все это не слушать. Ватой уши не затыкал, а просто о чем-нибудь своем старался думать. Так легче было отогнать от себя весь этот вой. Одни звуки заглушали другие; кроме того, я знал, что страшны не громкие пули, а те, которые кусают исподтишка — и не услышишь, как зацепят. Вдруг глухо загудели фашистские танки, стало очень страшно. Только тут я понял, как близко гитлеровцы. Ведь мы хорошо знали, как движутся танки. Если они загудели... ... Медленно тянулось время. На нас шел чужой, глухой скрежет. Александра Павловна была с нами в блиндаже. Фекла Егоровна молча поглядывала на свою подругу, точно ждала, что же она теперь ей скажет. А Александра Павловна почему-то обернулась ко мне и спросила: — Мурашки бегают? Я кивнул и подумал: «Неужели их танки придут сюда?» Все мы тогда, кроме Павлика, думали об этом. Александра Павловна уже не журила Феклу за трусость, за беспокойство, а сама сказала: — Раньше боялась: стану уродом — как буду жить среди своих, а теперь поняла: лучше уродом со своими, чем красавицей у чужих. На все готова, лишь бы к ним с детьми не попасться. А «они» были от нас так близко. — Отвяжись, худая жизнь! — сказала Александра Павловна и обняла Феклу Егоровну. Девчонки вцепились им в юбки, а Вовка пробурчал: А граната на что! — и опустил руку в карман. Он стал у самой двери. Все молчали, а Александра Павловна прислушалась и сказала: Слышите, бас. Громче всех. Это, должно быть, Петр Федотович бьет из своего «Шаляпина». Вовка выбежал из блиндажа, а через несколько минут вернулся такой радостный и закричал: — Подбили, подбили наши их танк! Сам видел, как он завертелся! Все так же не умолкали пушки, гавкали минометы, шипели наши тяжелые снаряды; в блиндаж сочился смрадный, едкий чад, но в доносившемся гуле уже не было скрежета танков. ... Через несколько часов в блиндаже показался наш бронебойщик. Каска на голове, пилотку же держал в руке. Капли пота стекали по его лицу. — Жарко! — сказал нам не сразу Петр Федотович. — Урал не посрамили! Только орудие мое сильно накалилось. Подбили мы два танка, а другие «черные связки» назад повернули. Идолы, помощника моего ранили. Остался я без «второго номера». Всегда его помнить буду. Сержант снял гимнастерку и протянул ее Фекле Егоровне: — Залатай, прошу! Он жадно пил воду, но, не допив кружку, медленно вылил остатки себе на голову; потом повернул голову направо, налево и сказал, задумавшись: — Раз она круглая, должна вертеться. И земля вертится. С каждым днем становилось тревожней. Отгонят наши противника за железнодорожную насыпь, продвинутся вперед на несколько метров — Александра Павловна Феклу Егоровну подбадривает: — Разве можно унывать в такое время! Отобьют фашисты наши атаки, потеснят со ската — Александра Павловна сама не своя. Она знала каждый кустик, каждую ямку вокруг бугра. Идет бой, Александры Павловны нет в блиндаже. Она с Вовкой и связистам помогала и боеприпасы таскала. А когда их не хватало, собирала у убитых гранаты и подносила бойцам. Как только она их не называла: и сметливыми и удалыми, особенно моряков, которые на суше дрались! — Бравый народ! Любо-дорого посмотреть! Заводских хвалила за хватку, а про пехотинцев говорила, что «нет нигде лучше их, ни в мире, ни в Сибири». Придет Александра Павловна в блиндаж усталая, бледная, с запавшими глазами, урвет часок-другой для сна и снова обратно. — Хоть нос в крови и злости полны кости, а держусь, раз надо, — говорила она. Сквозь неумолкаемый грохот нескончаемого боя мы уже слышали и наши танки. Они шли мимо нас на бугор. Фекла Егоровна ко всему привыкла, только не к лязгу танков. Все мерещилось ей, что Вовка попадет под гусеницы. Когда Вовку посадили в танк, чтобы он указал дорогу, Фекла Егоровна закрыла лицо руками. Вовка вскоре вернулся. — Что нам, бурлакам! — сказал он, появившись в блиндаже. ... Александра Павловна из нашего танка, подбитого гитлеровцами, вытащила обожженных танкистов, сама приползла вся в крови, почерневшая, опаленная, глаза мутные. Сразу было видно, что ей тяжело. В блиндаже расступились, и Александра Павловна упала животом на койку. Фекла Егоровна не знала, как помочь подруге. Всю ее ощупала. Нигде ни царапины. Должно быть, сильно оглушило ее или надорвалась. Она только пожаловалась, что все в ее глазах расплывается, терпкий запах пороха стал ей невмоготу. Фекла Егоровна раскрыла дверь. Александра Павловна попросила закрыть. Только закрыли дверь, опять просит открыть. Александру Павловну все окопники и тыловики знали и крепко уважали. Из штаба батальона пришли ее проведать, а потом и врач военный появился. Выслушал ее трубочкой, как маленькую, и сказал: — Полежать вам надо, Александра Павловна, успокоиться. Он и Павлика заодно осмотрел, потрогал его голову, за ножки потянул и ткнул пальцем в живот: — Хорош фронтовичек! Хоть бледненький, а с обстановкой справляется. Ему бы другие ясли, был бы кровь с молоком! Фекла Егоровна никуда больше от себя Александру Павловну из «яслей» не отпускала. Как прикрикнет на нее, она слушается. Как-то слышал я их разговор, когда Фекла Егоровна тельняшки стирала: — Знаю я, не оставишь ты моих девчонок. — Ну и ты мою ораву не бросишь. Александре Павловне нанесли лекарств целую гору. Нальет она ложечку, а сама говорит: — Мне аптека не прибавит века. Вот подул бы сюда ветерок с Волги! Как-то ночью, когда Александра Павловна еще подчинялась Фекле Егоровне, а Вовка где-то один лазил, совсем близко от нас кто-то застонал. Фекла Егоровна, всегда настороженная, прислушалась. Человек стонал не переставая, он звал к себе на помощь. Фекла Егоровна вышла из блиндажа и прислушалась. Она решила действовать по всем правилам и поползла по-пластунски. Посмотрел я — тихо в блиндаже. Юля и Агаша спят рядышком. Не за кем мне было смотреть, и я устроился на ступеньках у входа. Фекла Егоровна подтащила раненого. Он тяжело и часто дышал. Усадила его на верхней ступеньке, сняла шинель, расстегнула ворот гимнастерки, на голову положила мокрый платок, а мне велела не отходить. Вот-вот должны прийти санитары с носилками. По временам метавшиеся огни светили, как фары, то и дело повисали ракеты, и я хорошо разглядел его лицо: глаза блестели, а губы синие. Раненый задыхался. Как будто что-то злое, попавшее ему в грудь, все не могло успокоиться и хрипело в нем, вырываясь наружу то со свистом, то со стоном. Он порывисто, широко раскрытым ртом глотал воздух, но не мог его вобрать в свою грудь. Он даже взмахнул рукой, словно хотел подтолкнуть его к себе. Откуда-то вынырнул Вовка. — Тетя Фекла, Вовка здесь! — крикнул я. А Вовка уже раздобыл обложку какой-то книги и начал махать ею перед лицом раненого. Мне стало легче от ветерка. А раненый несколько раз совсем свободно вздохнул. Мы придерживали его с двух сторон. А потом сквозь прерывистые хрипы мне показалось, что раненый кого-то зовет. И мы с Вовкой услышали: — Мамо! После этого он еще раз прохрипел, провел рукой по груди, весь подался вперед, покачнулся, еще раз глубоко вздохнул и перестал жить. На наш зов из блиндажа вышла Фекла Егоровна, а за ней, чуть шатаясь, и Александра Павловна. Раненый уже был неподвижен. Женщины подняли его и положили лицом вверх около блиндажа. Когда стало светать, я поднял с земли маленькую самодельную записную книжечку. В ней было всего несколько листов, прошитых толстой черной ниткой. На первой страничке наклеена фотография. Я узнал его. Вовка заинтересовался, что это я разглядываю, и не дал мне досмотреть. Он выхватил из моих рук книжечку и посмотрел на нее прищурясь. Четко и со старанием были выведены буквы. Даже я мог их разобрать. Вначале Вовка стал декламировать, а потом осекся. Все, что было в этой книжечке, прочитала вслух Фекла Егоровна. А потом Александра Павловна долго вглядывалась в каждый листок. Из этой книжечки мы узнали, что убитого звали Колей. Он фотографировался, когда вышел из госпиталя и в третий раз ехал на фронт. Александра Павловна объяснила нам, что Коля не получал писем из дому и сам не писал домой, так как его родина была занята фашистами. Но в эту книжечку записывал все, что хотел сказать матери. Он желал здоровья своей маме и сестре Наде. Он писал им, что жив и здоров, чего и им желает
. Он просил того, кому попадется эта книжечка, переслать ее, когда будет возможно, на Украину по домашнему адресу. — Сердечный, верил своей власти, — сказала Александра Павловна. Она обдумывала вслух, сдать ли эти листочки капитану, приходившему к ним в блиндаж, или сохранить самой. — Капитану расскажем, а письмо, раз матери, — дело женское. Придет время, сама отошлю. Так и знайте: у меня на груди, вместе со всеми документами, — сказала Александра Павловна. Вовка расширил яму, вырытую снарядом, и на ее дно постелил шинель. Когда земля скрыла Колю, Фекла Егоровна заплакала и обхватила рукой Вовку. Александра Павловна стояла у входа в блиндаж, прислонившись к бревну... Только недавно расстался я с Шурой и нашел пристанище в блиндаже, а казалось, что все это было давным-давно. Перед рассветом по временам стихали скрежет и свист. Посвежело, и хотелось, чтобы стало еще прохладней, закрутила бы метель и унесла всю гарь. Над головой прошуршал одинокий снаряд. Откуда-то доносились хриплые голоса. А потом вдруг налетел и зашумел ветер. Он налетел неожиданно. И, если бы подле блиндажа росли деревья, они затрепетали бы и по земле закружились осенние листья. Но так голо было вокруг! Ни одного желтого листочка. Ветер принес какую-то свежесть. Я вспомнил, как у оврага сдувал одуванчики, стараясь, чтобы пушинки попали Оле в лицо, а она стряхивала их и весело кричала: «Одудяги, одудяги!» Было приятно, что легко дышится. И тут же мне стало стыдно. Ведь только что на моих глазах мучился Коля. ... Много лет прошло с того серого утра, а я до сих пор слышу его голос, будто звал он не только свою маму, оставленную на Украине, но и мою, которая уже никогда не отзовется. Настал день, когда нам пришлось покинуть блиндаж. Бой шел совсем рядом, у огненного от разрывов железнодорожного полотна. — Придется вам, солдатки, на новое место пере браться, — сказал забежавший к нам командир. Мы собирались, а в блиндаж уже пришли телефонист и другие очень занятые люди. Один из них похвалил наше жилье за четыре наката, а другой только вздохнул и сказал: — Эх, малолеточки! Телефонист уже сидел с плотно прижатой к ушам трубкой. Как слышите? Прием. Латунь! Латунь! Раз, два, три, четыре, пять. — Я Латунь, Латунь. И опять то же самое. Мы покинули блиндаж, когда смеркалось. Фекла Егоровна несла на руках спящего Павлика. Я, Юлька и Вовка тянули всякий скарб. Александра Павловна хотела оставить гитару, а Юлька упросила взять и про дядю Орлова при этом вспомнила. Ей пришлось самой нести гитару. Она выскользнула у нее из-под локтя, и Юлька волочила ее за собой — удивительно, как не разбила. Мимо нас пробежали бойцы в плащ-палатках. Вовка тут же объяснил: — Для броска накапливаются. Одна за другой разорвались вражеские мины, обдав нас горячим воздухом. Из всех соседних щелей к мосту тянулись жители. Все были очень худыми. Неужели и мы стали такими? Я нес ведро и стеганки. Одну из них надел на себя. Рукава болтались, и их пришлось подвернуть. Много нас сбилось в туннеле под мостом, продуваемом осенним ветром. Александра Павловна с Вовкой принялись в стороне копать щель. Я расстелил стеганки, и Фекла Егоровна уложила на них Павлика и посадила девчонок, укрыв их одеялом. У стены стояла высокая старая женщина; взглянула на меня и, заметив, что я тоже обратил на нее внимание, сразу же отвернулась и больше не смотрела в мою сторону. Меня удивил ее поношенный черный балахон с широкими рукавами, напоминавшими крылья. Засаленная, дырявая матерчатая сумка висела на большой белой перламутровой пуговице. На ногах красовались клетчатые домашние туфли с большими пушистыми помпонами. На голове же ее торчала детская панамка, из-под которой во все стороны выбивались косматые волосы какого-то мутного, неопределенного цвета. «Должно быть, тронулась после бомбежки», — подумал я. Мне стало жаль старуху, я подошел к ней и спросил: — Бабушка, ты в Сталинграде жила или из Ленинграда приехала? Она ничего не ответила, но все же обернулась и как-то странно, вскользь, блестящими глазами посмотрела на меня, будто что-то хочет и не может сказать. Я понял — она глухонемая. — Бабушка, может, пить хочешь? Я принесу, — крикнул я очень громко. Но она и на это ничего не ответила. Землянка была еще не готова. Александра Павлов-па и Вовка собирали вокруг доски, подкатили бревно; когда же стемнело, отправились к нашему блиндажу забрать оставленные вещи. Фекла Егоровна не отходила от детей — то одеяло поправит, то сядет так, чтобы загородить собой ветер. Я лег на стеганку и ею же завернулся... Должно быть, спал некрепко, потому что сразу же проснулся, когда почувствовал — кто-то погладил меня по голове и очень негромко сказал: — А волосы уже отросли. Какой знакомый голос! Я вскочил и увидел высокую глухонемую старуху. Заглянул ей в глаза. Не помня себя, я схватил ее за руку. Теперь я знал все. Это ее голос, ее глаза, ее рука — большая, шершавая. Я прижался к ней, к моей Шуре. А она что-то забормотала. Я гладил ее руку. И снова услышал такой знакомый голос: — Хороший мой. Как же она так состарилась? Она накинула мне на плечи стеганку и потащила за собой. Но только мы отошли на несколько шагов, как Шура остановилась и сказала: — Видишь, какая я стала. Тетя Шура, разве можно так скоро стать ба бушкой? А морщин у тебя сколько! Все лицо в морщинах. Недаром беззубая! Слу шай, Геночка, не расставайся с этими людьми, а мы снова увидимся. Иди на свое место и никому ни слова. Как я рада, что тебя повидала! А мне туда! — Шура подняла крыло своего балахона и показала в сторону нашего блиндажа. Она чуть согнулась и ушла, не оглядываясь. Я не сразу опомнился. Что же я стою? Так ждал Шуру, а теперь опять ничего не известно! Но ведь здесь же Фекла Егоровна, Вовка, Александра Павловна. Как же мне уйти от них? А вот так просто и уйти, туда, за Шурой. Она обещала найти Олю. Она никогда не говорила мне, что я маленький. С ней не страшно. Все это пронеслось разом, а я уже шел за ней. Вспыхнули ракеты, вначале красная, потом зеленая. Гаркнули мины. Шура легла. А я, не теряя времени, подбежал к ней совсем близко. Теперь мы снова вместе. Она услышала мой топот, обернулась и сказала: — Гена, вернись! — Шура, возьми меня с собой. Она не хотела, чтобы я к ней приблизился, стала очень строгой, а потом воскликнула: Меня бить надо за то, что я подошла к тебе. — Не надо бить. А если с тобой что случится? Ничего со мной не будет, —- сказал я твердо, повторив слова Александры Павловны. Гена, вернись! — снова сказала Шура. А я вместо того, чтобы послушаться, подбежал к ней и схватил за черный балахон. Не отпущу. Она не отгонит меня камнями. Мама взяла бы меня с собой. Я слыхал, что у людей бывает разрыв сердца. Сердце так билось, что я решил — сейчас оно лопнет. Я уже закрыл глаза. И в это мгновение услыхал Шурин голос: — Открой глаза. Дай я посмотрю, Гена, какие они у тебя. Так слушай же хорошенько. Я говорю с тобой от имени командования. Такой бабушке, как я, нужен такой внучек, как ты. Забудь о том, что звал меня Шурой. Я стала старухой, чтобы меня не узнавали. Ведь многие меня в городе знают. А на старух немцы не смотрят. Я уже была там без маскарада, проходу не дают, еле выбралась. И ни о чем больше не спраши вай. Ладно, беру тебя в помощники. Я готов был идти за Шурой хоть на край света, не отстану от нее никогда, никогда, хотя она так быстро и крупно шагает. До сих пор благодарен я Шуре за ее доверие. Теперь-то я знаю, что она тогда не имела права никому открываться. Но что ей было делать, когда я узнал ее? И она снова протянула мне свою руку, так напоминавшую мне большую, загрубевшую руку отца. Я твоя бабушка Наталья. Забудь мое настоя щее имя. Я Наталья Антоновна, а ты мой внучек, мы идем в город мамку искать. А может быть, Олю? Мамку и Олю, — ответила Шура. — Раз так, давай, постреленок, поцелуемся! Я не знал, кого я целовал — Шуру ли, бабушку ли Наталью, но, когда я снова зашагал со своей спутницей, я чувствовал, что папа и мама довольны мною и желают нам большой удачи. Мы проползли через полотно железной дороги, потом долго лежали. Еще ползли и забрались в воронку, пахнувшую порохом и дымом. Все более и более светлело. Сияние ракет стало совсем бледным, и в мутном небе потускнели черточки трассирующих пуль. Когда стало совсем светло, мы вылезли из воронки. Шура поправила панамку на голове, сморщила лицо и не спеша, молча пошла вперед совсем незнакомой мне походкой. ... Мы вышли через пустырь к разрушенному дому. У его ворот я увидел вооруженных людей, одетых в зелено-пепельные шинели. Они разговаривали на незнакомом мне языке. В первый раз я увидел перед собой захватчиков. Они не обратили на нас никакого внимания. Мы шли по разрушенной сталинградской улице. Моя бабушка Наталья Антоновна чуть наклонилась и сказала мне прямо в ухо: — Перешли линию фронта! Шура шла все дальше, будто никого и ничего не замечала. Я не узнавал своего города. По его мостовым сновали враги. Они расчищали проходы, несли бревна и столбы, стояли на посту, чувствовали себя очень свободно, будто не мы, а они здесь всегда жили. Над нами тянулся бросающийся в глаза красный провод. Раньше я видел фашистов только на плакатах и хорошо представлял самого главного из них — с маленькими усиками и прядью волос, спускающейся на низкий лоб. У него длинные, загребущие руки и кричащий рот, как у гиены в зоологическом саду, на которую я всегда смотрел с отвращением. Это он дал своим солдатам автоматы и карабины, а через плечи перекинул железные ленты с патронами. Вначале я удивился — почему на них все трофейное. Сразу не сообразил, что им-то оно не трофейное, а свое. А что, если они сейчас схватят меня и Шуру и начнут пытать? Беспокойство перемешивалось с чувством любопытства. Мне казалось, что все это я разглядываю через полевой бинокль. За плечами у солдат, как у школьников, висели большие желтые ранцы. Болтались тесаки. Сапоги коротенькие, на толстой подошве с шипами. И френчи короткие, с аккуратно вшитыми хлястиками. Даже зло взяло — сколько среди них было чисто одетых, холеных и гладко выбритых. Они щурились от солнца, протирали очки, чистили зубы, прикладываясь к фляжкам, обтянутым сукном; потягивались, выходя из блиндажей, и громко приветствовали друг друга. Шура не обращала внимания на гитлеровских солдат. Она шла прямо. Несколько раз нас окликали. Но какое дело до этих окриков глухой старухе, которая задыхалась, кряхтела и кашляла. Иногда мне казалось, что вот-вот она наткнется на часовых. Один из них даже посторонился. А Шура шла все дальше, будто никого и ничего не замечала. Она смотрела на встречных большими немигающими глазами. Мы шли к садику. Только Шура вступила на дорожку, как гитлеровец, в накинутой на плечи пятнистой накидке, преградил нам путь. Шура хотела обойти его, сделала шаг по выгоревшему газону. Солдат что-то закричал громким голосом. Шура остановилась, посмотрела на крикуна и зашептала. Когда мы проходили через площадь, у развалин гостиницы увидели ровные ряды свежеоструганных деревянных крестов. На этом кладбище были похоронены убитые немцы. Тут же, на земле, лежали люди в нашей родной красноармейской форме. Гитлеровцы запрещали их хоронить. Все больше попадалось вражеских солдат. Они несли полные котелки, боясь расплескать какую-то жижу. Некоторые прижимали к своей груди огромные арбузы. Шура засмеялась, а потом сразу же заплакала. Трудно было понять — плачет ли она или смеется. Я никогда не видел, чтобы человек делал это одновременно. На мою «бабушку» смотрели с удивлением и даже боязнью. На набережной Шура устало опустилась на большой камень. Она стала вынимать из-за пазухи какие-то тряпочки, моточки, ленточки; разложила свои богатства на коленях, долго разглядывала, а потом принялась перебирать. Будто уж очень она углубилась в это занятие. Шура привстала. С ее колен посыпались тряпки. Она стала собирать их и снова уселась на камень, только с другой стороны, лицом к Волге. На набережной работали солдаты. Они копали землю, что-то укладывали в яму и снова засыпали ее. Сквозь всхлипывания моей «бабушки» я иногда слышал и обычный Шурин голос. — Тол закладывают, — быстро пояснила она. Скажет слово, и опять за свое. Волга текла серой лентой, отражая хмурые тучи. Совсем рядом, справа и слева, наши войска держались за каждый кусок земли, как тогда говорили — стояли насмерть! Там, за развалинами — у Соленой пристани и к заводам, — берег Волги был в наших руках; у Мамаева не прекращался бой за железнодорожное полотно. А в другой стороне, там, где Сталгрэс и Судоверфь, наши войска защищали огромный район непобедимого города. Только в центре немцы вышли к Волге. Куда ни посмотришь — всюду вдали дымилась земля и к небу поднимались высокие столбы черного дыма. Прямо к нам шел гитлеровец. Длинный, как жердь, в голубоватом наглаженном френче, в сверкающих, без единой морщинки сапогах, в высокой фуражке с лаковым козырьком, всем своим напыщенным видом он так и говорил: вот я какой! В такт его шагам покачивался кортик с нарядным шнурком у рукоятки. Как я жалел, что нет сейчас где-нибудь поблизости нашего снайпера! Хоть бы камнем угодить в такого гусака! Он остановился в нескольких шагах от нас, вертя в руке лайковую перчатку. — Если ты, старая каналья, не уберешься из запретной зоны... — крикнул он по-русски... Шура не дала ему закончить: — Уйду, уйду, дайте, господин офицер, отдышаться. Шура поднялась с камня, взмахнула рукавами черного балахона, будто собиралась улететь. Она заторопилась и начала совать тряпки в дырявую сумку. Гитлеровец успокоился и, выпячивая грудь, пошел дальше, туда, куда тянулся подвешенный на тонкие жерди красный телефонный провод и у входа в блиндаж грелась на солнце породистая рыжая собака с длинной мордой. Шура опять заговорила сама с собой. Она несла какую-то чепуху и даже стала что-то тихонько напевать. Мы шли наверх, удаляясь от Волги. Вот двор разрушенной школы. Шура оглянулась и не по-старушечьи, а по-комсомольски прыгнула в пустой окоп. Я — следом за ней. Шура больше не плакала и не смеялась. Она натерла свое лицо какой-то мазью из баночки. — Это я для морщин. Если нас задержат, ск
ажем, что идем на бахчи, — сказала Шура. Через огромное отверстие в стене было видно все, что делалось по ту сторону оврага. — Видишь вспышки? — спросил я Шуру. — Это их орудия! Она осталась довольна: — Каким наблюдателем стал! Шура раньше любила молчать. Но теперь, когда пришлось ей стать старухой, она часто первой начинала разговор. И все про самое разное: то спросит, умела ли моя мама шить на швейной машине, то об отце своем расскажет. Она тоже гордилась своим отцом. Сидя в окопе, мы вспоминали борщ со сметаной, пирожки с картошкой... Наговоримся досыта, вылезем из окопа — и снова в путь, «бабушка» и «внучек». Так продолжалось несколько дней. За полотном железной дороги, в подвалах и щелях, осталось еще много мирных жителей. Днем, когда все дрожало от гула и грохота, мы ходили по подвалам. У меня за спиной болтался мешок. Мы искали с «бабушкой» то маму, то родственников. Несколько раз мы доходили до Волги, где затонула баржа с зерном. К этой барже и к разбитому элеватору тянулся поток голодных людей. Днем было не по-осеннему жарко. В стороне стояли фашисты, одетые в короткие широкие штаны и распахнутые рубашки без рукавов, будто собрались на пляж, полежать на песочке. Но они забавлялись не на пляже, а здесь. Из черных автоматических пистолетов то стреляли нам под ноги, то поверх голов. Пули то и дело стучали по железобетонной башне элеватора. Один из забавников не стрелял. Он расставил ноги, чуть наклонился, держась обеими руками за голые коленки, и, не скрывая своего удовольствия, наблюдал за происходящим. Он громко хихикал и даже взвизгивал от радости, когда кто-нибудь у элеватора падал или начинал метаться по сторонам. А люди все ползли и ползли за мокрым зерном. Дорога была каждая горсть. Зерно сушили, терли кирпичами, размалывали на ручных мельницах на кашу и лепешки. Мы тоже набрали зерна. С ним было безопасней возвращаться обратно разными окольными путями. И так мы узнавали одно за другим... На Медведицкой улице меж развалин стоят дальнобойные орудия; тяжелая пушка на углу Днепровской... На Аральской улице, на углу Невской и Медведицкой висели страшные объявления. «Бабушка» читала их вслух, как-то по-особому распевая, будто молилась: «Кто здесь пройдет, тому смерть». Только один раз нас задержал грузный немец, похожий на бочку. Мы попались ему на глаза, когда он отдыхал в большом, обитом плюшем кресле, поставленном у входа в блиндаж. Он остановил нас, оглядел с головы до ног и с удовлетворением крякнул. По-видимому, мы ему понравились. Он разговаривал с нами без переводчика и почти без слов. По его приказанию из блиндажа вынесли мешок картошки, и он сам вручил нам два ножа. Приказ был ясен — чистить картошку! Вначале он несколько раз подходил, выхватывал нож из моих рук и показывал, как надо срезать кожуру. Мы покорились. Прошло много часов, а мы все сидели на одном месте. Много начистили, а в мешке оставалось еще больше. Толстяк то исчезал в блиндаже, то снова устраивался в кресле. Стоило только ему усесться поудобнее, он начинал клевать носом, опуская жирный подбородок на грудь. Он вздрагивал при сильных залпах, сползал с кресла, но не просыпался, продолжая всхрапывать. А мы чистили и чистили. Мои руки почернели, а кожура ползла из-под ножа совсем не такая тонкая, как требовал немец. Я сидел рядом с Шурой, и она тихо-тихо говорила со мной. Она вспомнила красного партизана, которого мы встретили на лестнице, выходя из подвала городского театра. — Он научил меня работать на зуборезном станке. Замолчала, а потом спросила: — А помнишь Женю-патефончика? Я даже удивился — разве можно забыть такую певунью. Шура наклонилась ко мне и сказала совсем тихо: — Не повезло ей. Убили, когда линию фронта переходила. Одна была у родителей. На Дар-горе жили. У меня из рук выпал нож, и так не хотелось снова за него браться! Хоть бы подавились они этой картошкой! С ненавистью посмотрел я на спящего повара, на его отвисший подбородок. Шура продолжала свой разговор. Она всегда говорила со мной, как со взрослым. И про то, как на заводской спартакиаде первое место заняла по прыжкам и как на Волге провела целый месяц в плавучем доме отдыха... Шура тихо рассказывала, а сама то и дело посматривала по сторонам. Мимо нас проходили гитлеровцы, на петлицах их — белые черепа над скрещенными костями. — Танкисты, — сказала Шура. Только в сумерках справились мы с мешком. Толстяк был доволен. Мы набили свои сумки картофельной шелухой. Немец разрешил нам сверху положить и несколько картофелин. Он, как мне объяснила Шура, даже пожелал нам спокойной ночи. «Это он такой потому, что выспался», — подумал я тогда. Мы шли в Дзержинский район. Быстро потемнело осеннее небо. Разрывы мин и снарядов зарницами освещали нам путь. Ночью чуть стихал грохот, и на мгновение наступала непривычная тишина. Она больно отдавалась в ушах. А вот и подвал, в котором мы как-то ночевали. Здесь мы выложили не только шелуху, но и заманчи-,вые картофелины. Устроит Шура меня на ночлег, что-нибудь скажет ласковое, а сама куда-то на несколько часов исчезнет. Я уж к этому привык. Уходя, она всегда кому-нибудь говорила: — Вы уж посмотрите за внучонком! Возвращаясь, она приносила еду. Каждый раз, когда Шура уходила, я боялся: а вдруг она не вернется? Я гнал от себя назойливую мысль: что будет, если мне снова придется хоть на время расстаться с Шурой? Так и случилось. Однажды меня одолел сон, а когда приоткрыл глаза, ее уже не было. Меня уговаривали, обнадеживали, со мной были ласковы, но шли часы, а «бабушка Наталья» не приходила. А за часами потянулись дни... «Держись тех, кто тебе по душе, и сам, кому можешь, помогай», — говорила мне Шура, и я это крепко запомнил. Как-то само собой получалось, что я пристраивался к тем, у кого были маленькие дети. Я любил их нянчить и всегда при этом вспоминал Олю. От грохота вздрагивали толстые, холодные стены подвала. Люди сбивались на середину, а самые маленькие жались друг к другу. Все мы были в лохмотьях, лежали на тряпках, изодранных матрацах, подкладывая под голову то вывалившуюся из них вату, то собственный локоть. По ночам крысы вылезали из нор и поднимали возню. Одна старуха и днем и ночью сидела на узле. Она подзывала к себе женщин и твердила им одно и то же: — Там белье мое предсмертное, десять лет назад справила. Кто же теперь оденет меня, когда помру? Все чаще и чаще, раскрывая настежь двери, приходили в подвал фашисты. Они искали патефоны и пластинки. — Вам не музыку, а бомбу хорошую, — сказала, вздохнув, старуха. Понял ли ее гитлеровец, или просто голосом своим старуха обратила на себя внимание, он подошел к ней и ударом ноги выбил из-под нее узел. Старуха уцепилась рукой за узел. — Русский партизан! — крикнул гитлеровец и выстрелил из автомата в старуху. Она грохнулась на каменный пол. А он вместо патефона поволок за собой узел. Все чаще и чаще приходили в подвал фашисты. Когда наши женщины вытащили тело старухи из подвала, они наткнулись на узел, валявшийся на земле, а невдалеке лежал с оторванной ногой любитель музыки, подкошенный осколком снаряда Женщины развязали узел. Мне почему-то запомнилась скомканная, но очень длинная белая рубашка в складочках и кружевах. А старушка была невысокая. Ее похоронили, как она просила. В подвале жили две сестры — Галя и Валя Олейник. Около них на полу стоял большой кожаный чемодан. Галя была уже большая; она окончила школу перед самой войной. Галя рассказывала, как у нее в школе был устроен выпускной бал, затянувшийся за полночь. Утром она узнала, что началась война. А Валя еще нигде не училась, она была детсадовская, ей было всего шесть лет. Вот эти сестры больше всех других были мне по душе. Галя ничего не знала об отце. В первую же большую августовскую бомбежку погибла мать. Галя работала тогда сандружинницей, а потом и бойцом противовоздушной обороны. Когда гитлеровцы приходили в подвал, Галя сторонилась их и старалась не попадаться им на глаза. Однажды фашист обратил внимание на ее большой кожаный чемодан. Валюта сидела на чемодане. Фашист согнал ее и открыл крышку. В этом чемодане было все, что Галя унесла из дома. Он начал копаться в вещах, схватил в охапку платья и вязаную кофту. Одно из платьев, голубое, было сшито для выпускного бала. Галя даже не подошла к чемодану. Когда грабитель ушел, она только сказала: — Пусть подавится! На ночь она укладывала сестренку на чемодан, который был Вале в самый раз, даже если она вытягивала ножки. Когда утром Валя просыпалась, сестра первым делом спрашивала ее, что снилось. Один раз Валя во сне видела яблоко, в другой — как поймали Гитлера и посадили его в клетку. Однажды Валя проснулась ночью. — Может быть, яблоко приснилось? — спросила ее Галя. Но сестренка вместо ответа показала на горло. Видно, ей было тяжело говорить. Галя положила ей на лоб руку, а потом для сравнения потрогала и мой лоб. Мой был холодный, а Валя горела. Я слышал, как из ее рта вылетали хрипы, и вспомнил раненого Колю, который писал своей матери на Украину... Я сказал Гале, что надо сделать веер и размахивать им над Валей. Так ей будет легче. Но Галя меня не послушала. Она, должно быть, думала, что все обойдется. Наступило утро, и Валя, бледненькая-бледненькая, все так же тяжело дышала; она заплакала, когда сестра дала ей пить: так больно было ей глотать. Женщины посоветовали Гале позвать врача. А она все медлила. Про эту женщину-врача уже не раз говорили у нас в подвале. Рассказывали, что она очень .распорядительная, толковая, верно болезнь определяет, а на собраниях раньше выступала так, что все заслушивались. А теперь про нее шел разговор, будто она сдружилась с гитлеровцами, не горюет и не скучает, а больных посещает только за плату. И все же Галя позвала ее. Она пришла без халата, в бархатном платье, такая полная, спокойная. Вокруг ее головы была уложена толстая коса. Как будто она собралась в гости или в театр. Нос ее был похож на крупную симпатичную картофелину. Врачиха показалась мне очень простодушной. Она подошла к чемодану. В подвале и днем всегда был полумрак, и Галя зажгла фитилек. Врачиха заглянула в Валюшино горло и сразу же сказала: — Дифтерия! Елена Алексеевна, помогите девочке. У нее, кроме сестры, никого нет, — сказала худенькая черно волосая женщина, которая работала прежде регистра торшей в той же амбулатории, где и врачиха. — Я помогу, конечно, но знаете, это будет дорого стоить. А совзнаки теперь не в ходу. У них же ничего нет. На вас вся надежда! — сказала регистраторша. Что же делать, такое время, — ответила Елена Алексеевна. — Сыворотку трудно достать, а я и так немало туфель износила. — Елена Алексеевна, а вы постарайтесь, — снова попросила регистраторша. — Это мой долг. А вам бы я посоветовала лучше не вмешиваться. На этот раз мы обойдемся без заседания месткома. Да, я давно хотела вас спросить. Помните, вы собирались вступить в партию. Ну как, успели? — Она ухмыльнулась, торжествующе посмо трела на всех и добавила: — Ведь у вас были такие хорошие рекомендации. — Стыдно вам, Елена Алексеевна! Вы же раньше совсем другое говорили! — ответила регистраторша и отошла в сторону. — А чего мне стыдиться? Да! Говорила другое. Я должна была скрывать свое происхождение, иначе бы меня и в институт не приняли и я бы теперь не могла спасти эту девочку. Картошка на ее лице уже не казалась мне больше симпатичной, она раздулась и стала совсем красной. Переменив тон, Елена Алексеевна строго сказала Гале: — Голубушка, если не ввести девочке сыворотку, она погибнет. У меня ее нет. Решайте сами. Мне нелегко будет достать сыворотку. Придется обратиться в немецкий госпиталь, а за это надо кое-кого отблагодарить. — Но я не знаю, чем расплатиться, — ответила Галя. Какое-нибудь колечко, часики, браслетик, на конец, всегда найдутся. Ну, скажите, пожалуйста, зачем вам теперь безделушки? — У меня нет ни колечка, ни часиков. Не помня себя, я закричал: — Есть! Есть часы! Я достал отцовские часы, завернутые в тряпочку, и протянул их Гале. Мой папа словно был рядом со мной. Он одобрительно кивнул мне головой. — Возьмите, — сказала Галя, передавая часы врачихе. Та внимательно посмотрела на часы. — Мужские, — сказала она разочарованно. Но все же завела часы, послушала их ход и опустила в кожаную сумочку, висевшую у нее на руке. Потом повернулась и пошла к выходу. На ходу она бросила: — Ждите! «Придет или не придет?» — думал я. Должно быть, то же самое думали и все взрослые. Только Валя лежала на чемодане и молчала. — Гадина! Гадина! Какая мразь! — повторяла Галя. И коса-то приплетная у нее, не своя, а поддель ная, — сказала одна из женщин. Врачиха вернулась обратно с гитлеровским офицером. Невысокий, в длинной широкой шинели, напоминавшей юбку, он сделал несколько осторожных шагов, будто боялся оступиться, засветил электрический фонарик и молча начал шарить им по углам, а когда все осмотрел, потушил и повесил его на пуговицу, как свой третий выпученный глаз. Он стоял на одном месте и громко сопел, а потом даже чихнул. Но никто не сказал ему «на здоровье». Врачиха разложила на ящике какие-то пузыречки, попросила Галю ей помочь и как ни в чем не бывало подозвала свою бывшую сослуживицу: — А вы лучше подержите девочку. Валю положили на животик. Врачиха наклонилась над больной. Подняла рубашку. Я увидел в руках врачихи острую иглу. «Ведь может и заколоть», — подумал я и закрыл глаза. Я представил себе бородача — красного партизана, который целится из пулемета прямо в нос этой Елене Алексеевне. И еще подумал: «Если бы она узнала, что Шура не старуха, наверняка бы выдала ее врагам». — Вот так, так. Держите крепче. Придавите поясницу, — распоряжалась врачиха. — Какая милая девочка, не капризничает. Сейчас все. Должно быть, прошла лишь минута, и какой долгой она мне показалась! Я услыхал, как Валюта тихо заплакала, и раскрыл глаза. Врачиха держала в руке вату. Офицер взмахнул лайковой перчаткой и сделал шаг вперед, ткнув носком сапога кожаный чемодан. — Гонорар! — произнес он вызывающе. Все молчали. Валя поднялась с чемодана. Она чуть дрожала, такая измученная и маленькая рядом с толстой Еленой Алексеевной. Я слыхал, что воры не выносят взгляда честного человека, и посмотрел прям
о ей в глаза. А она даже не отвернулась. Ухватила меня пальцами за подбородок: — Какой отзывчивый. Я с такими, как ты, умею ладить. Немец вытряс все, что было в чемодане, на пол, ухватился за ручку, слегка раскачивая его, будто взвешивал. Врачиха отряхнула свое бархатное платье и в полной тишине, ни на кого не глядя, величественно поплыла к выходу. На следующий день Валя уже не была такой бледной; она ровно и легко дышала, просила есть и не жаловалась на боль в горле, а главное, рассмеялась, когда я засопел, выпучив глаза, и чихнул, стараясь передразнить одну противную рожу. Вечером к нам в подвал пришли гитлеровцы. Они увели с собой регистраторшу «на допрос в комендатуру». ... Про большой дом, в котором помещалась комендатура, я уже многое слышал. Там тоже был подвал, и в нем до прихода фашистов укрывались жители. Теперь из этого здания доносились приглушенные крики и стоны. Уже давно говорили, что гитлеровское командование предлагает всем взрослым, начиная с четырнадцати лет, добровольно отправиться на работу в Германию. У нас не нашлось таких добровольцев. — Тебе еще больше пяти лет ждать такого счастья, — говорила мне Галя. Но из подвала нас начали выгонять вместе — больших и маленьких. Никто не хотел уходить. А Галя как раз сварила суп из конины. Едим суп, а нас выгоняют. Галя сказала: — Спешить некуда, хоть наедимся перед дорогой. Гитлеровцы стали тащить кого за руку, кого за волосы. — Не трогать! — закричала Галя, когда один из них направился к нам. У него в руке был автомат, а у Гали — только котелок с супом, но в ее глазах была такая решимость, что немец издал лишь какой-то возглас, по-видимому выражавший удивление, и отошел. Через несколько минут за окном подвала ударила автоматная очередь. Галя стала собирать вещи. Закутала сестренку в шерстяную кофту. Гитлеровцы через окно бросили в подвал зажженную серу. Повалил белый дым. Сразу запершило в горле. Нечем было дышать. Галя подняла сестру, и мы побежали к выходу. И во дворе меня еще долго преследовал запах серы. Куда ни посмотришь, всюду такие же, как мы, с котомками за плечами, с малышами на руках. Все бледные, землистые; ни у кого в лице ни кровинки. И шли мы так долго-долго. Ночью нам разрешили сделать привал на мерзлой земле. Меня спасала ватная стеганка, а Валю — кофта. Как ни заворачивала Галя длинные рукава кофты, они раскручивались и повисали. А сколько людей шли тогда чуть ли не в майках. На привале они не могли стоять на одном месте. Кто-то пытался развести костер, и Галя уже раздобыла жестянку, чтобы разогреть воду, но подошел гитлеровец и раскидал хворост. Нас опять погнали. А куда? . . Все говорили — в Германию. Переводчик объяснил, что будет отправлен транспорт сталинградских девушек и женщин, изъявивших желание работать в Германии. Говорили также, что командование решило выгнать из города всех мирных жителей. До Германии было еще далеко. Как долго мы ни шли, а стоило только обернуться, и мы все еще видели огромное зарево над Сталинградом. ...На другом привале переводчик объявил, что сейчас подадут машину, но с вещами никого не посадят. Все узлы, корзины и чемоданы остались на земле. — Облегчили, — сказала Галя. На машинах мы ехали долго, потом опять шли пешком, пока не увидели перед собой рельсы. Объявили посадку. Мы залезли на платформу. Галя усадила нас у самого борта. К середине уже нельзя было продвинуться. Пронзительно засвистели. Все вздрогнуло и закачалось. Застучали колеса. Галя одной рукой придерживала платок, чтобы он не слетел с головы, а другой крепко прижимала к себе Валю. А я ухватился за край платформы. До нас на ней перевозили уголь, и теперь ветер хлестал в глаза угольной пылью. Поезд остановился в степи. Конвоиры торопили, чтобы мы скорей оставили платформы. Нас погнали за колючую проволоку в развалившиеся сараи. Во все щели со свистом дул холодный степной ветер. Земля в сарае была покрыта птичьим пометом. На нем уже лежали люди. Легли и мы. Галя расстелила платок. Накрылись моей стеганкой. Все казалось, что мы еще едем. Как хотелось есть и пить. Валя просит, а сестра говорит «сейчас», но ничего не дает. Только на следующий день она принесла кусок тыквы, который поделила на троих. Валя поела тыквы и вдруг спросила: У тебя есть деньги? Дай мне! Зачем? — удивилась Галя. Там Ленин нарисован. Хочу посмотреть, — услышали мы в ответ. Но у Гали не было денег. Вскоре ее куда-то вызвали. Мы ждали и гадали, что еще раздобудет Галя. Она пришла очень расстроенная, держа какие-то листки. — Ну, вот и проштемпелевали, — сказала она, опускаясь наземь. Долго молчала, а когда пришла в себя, вскочила, заторопилась, раздобыла иглу, стянула Вале дырку на чулке; достала гребень и начала расчесывать нам волосы. Они у меня слиплись, а Галя так старалась, что я то и дело морщился. Потом она принесла целую охапку соломы, разостлала ее и примяла. Когда мы легли все рядышком, мне показалось, что я еще никогда не лежал на такой мягкой перине. Галя обняла Валюшу и меня к себе пододвинула. Еще недавно мы поеживались от холода, а теперь словно какой-то добряк набросил на нас стеганое одеяло. Нас разбудили громким окриком. Так не хотелось вставать. И я вспомнил про папины карманные часы. Вот сейчас все бы спрашивали у меня: который час, — а мне это, признаться, очень нравилось. Мы собрались раньше других. — Что бы ни случилось, Гена, — руки не опускай, — сказала Галя. Всех нас вывели из сарая и погнали по узкой дорожке через лагерь. Только светало. У колючей проволоки виднелись силуэты гитлеровцев, одетых в шинели. Нам навстречу строем шли солдаты. Офицер скомандовал, и тревожно разнеслось эхо. Они окружили нас цепью с автоматами в руках. Вышел переводчик и что-то пробормотал про себя. И здесь началось. Нас начали сортировать. Всех молодых, здоровых, кому было больше четырнадцати лет, — в одну сторону; всех малых и старых— в другую. Одни падали на колени, умоляя не разлучать их с детьми, другие сопротивлялись и вырывались. Поднялся такой крик и плач, что трудно было разобрать отдельные голоса. Гитлеровцы отрывали детей от матерей, растаскивали близких. Люди падали, упирались. Детские голоса слились в один вопль: «Мама!» А гитлеровцы, как кнутом, ударяли нас короткими выкриками: — Цурюк! Цурюк! Галина держала Валю на руках, а у самой дрожали губы. Я боялся отстать, чтобы не потерять их, как Олю. — Я вернусь. Подождите немного, приеду! — крикнула Галя. Рука гитлеровца потянулась за Валей, но в этот момент Галина резко повернулась и сама опустила сестру. Между ними встал гитлеровец. — Держи Валю! Я и сам не заметил, как мы оказались за спинами солдат. Как мне хотелось пробраться к Гале и спросить ее, что же теперь делать? Фашисты стояли как каменные. Они будто ничего не слышали. От обиды сдавило в горле и жгло в глазах. Я не мог проронить ни слова. И только тут заметил, что не я держу Валю, а она крепко схватилась за мой рукав. Вот молодец, такую не потеряешь! Она вздрагивала, озираясь по сторонам, но не плакала и сказала мне: — Галя скоро вернется! Под чужие громкие окрики и команду, под стон разлученных, от которого сжималось сердце, наших советских людей погнали в неволю. Они оборачивались, что-то кричали, рвались обратно к своим. Мы с Валей как ни тянулись, больше не видели Галину; может быть, она нам и крикнула что-то на прощание.. . Вернулись мы на солому. Валя прижалась своей щекой к моей, а потом сняла платочек с головы, накинула мне на глаза и сказала: — Давай играть! Ты первым будешь водить. Как ни тяжело мне было, а пришлось водить. Всех взрослых выгоняли на земляные работы. Они возвращались мокрые, озябшие, перепачканные. Про детей же говорили, что скоро их посадят в телячьи вагоны и тоже куда-то увезут. Каждое утро в лагерь въезжала скрипучая повозка, запряженная крупной лошадью с коротким хвостом. Меня удивляли ее широченные копыта, похожие на пеньки. Лошадью правил невысокий немец с раздутой щекой. Его руки были в черных резиновых рукавицах. Он покашливал и время от времени покрикивал: «Ек! Ек!» Повозка объезжала сараи, и на нее накладывали умерших за ночь. Кормили нас один раз в день подгорелой жижей, а хлеб был величиной с листок. У Вали личико стало совсем остреньким. И еще запомнилось одно утро. Все проснулись, хотя на этот раз часовые нас не будили. Нарастая, гудела канонада. Снаряды рвались где-то далеко от лагеря, но гул и гром доносились и до нас. Все поняли, что это на огромном пространстве заработала наша артиллерия. Даже у самых старых заблестели глаза. Мы слушали молча, словно боясь что-нибудь прослушать и пропустить. Как всегда, наших людей погнали на работу, но в это утро они становились на перекличку не так понуро, как в другие дни. Даже мы, дети, понимали, что за колючей проволокой началось что-то очень важное. И Валя стала серьезной и ни о чем меня не спрашивала. Лагерные гитлеровцы так же топали своими подкованными сапогами, так же прикрикивали, но ведь и они все это слышали. Все они как-то изменились в лице. Когда стихла канонада, я услышал, как снова заскрипела знакомая повозка. «Если мы останемся здесь, — решил я, — обязательно попадем на повозку». А как бы поступила сейчас Шура? Я вспомнил, как мы с ней шагали, и сразу принял решение. Мы ушли днем, через главный выход. Часовой не остановил и не окликнул. Мне даже показалось, что он кивнул нам головой на прощание. Взрослых не выпускали. А кому мы с Валей были нужны? И мы пошли, как говорят, куда глаза глядят. Валя сама мне сказала, что Галю повезли к Гитлеру, но она все равно от него убежит. Валя часто болела. «Только, чур, не болей», — говорил я про себя Вале. А она оглядывалась — не догоняет ли нас Галя. Степь. Я поднял колоски. Съел несколько зерен и дал Вале. После этого еще сильнее захотелось есть. Ветер дул прямо в лицо, холодный и порывистый, даже платок содрал с В ал иной головы, и я его еле догнал. Тучи совсем низко неслись над землей. Они были намного темнее неба, как будто в них загустел черный дым. Некоторые из них были похожи на большие подушки, а у других края были зазубрены, как у осколков... Валя припадала то на одну, то на другую ногу. Мы вышли на дорогу. Столб со стрелой. Мы пошли в ту сторону, куда смотрела стрела своим острым концом. Долго мы тащились черепашьим шагом. Несколько раз останавливались, чтобы перевести дух. Валя выбилась из сил. Нас догнал мужчина, одетый в овчинный полушубок. Он обо всем расспросил меня: откуда мы и где наши родители. Я отвечал без охоты, лишь бы дяденька не обиделся; рассказал и о том, как нас разлучили с Галей. Он внимательно слушал, а сам только говорил «ага» и «да». Скажет, вздохнет и добродушно покачает головой. Я решил, что нам ни в коем случае не надо от него отставать, и сильнее прежнего стал тянуть Валю за руку. Дяденька взглянул на нее и сказал: — Ослабла девчоночка! Он взял ее на руки и понес. Я так и не спрашивал, куда идем. Мы свернули с дороги, взобрались на пригорок и пошли огородом. На грядке лежали огромные переспевшие огурцы. — Вот и дошли, — сказал дяденька. В доме были целы все окна. Между двойными рамами белела вата, разукрашенная разноцветными бумажными полосками. В сенях стояло полное ведро воды и на листе фанеры лежали черные головки мака. В кухне у печки, гремя заслонкой, хлопотала уже немолодая, дородная женщина, повязанная платочком. Когда мы вошли, она даже не обернулась. Детишки из Сталинграда, брат и сестра, — ска зал дяденька, снимая полушубок. «Детишки из Сталинграда»! — передразнила хозяйка. Она повернулась и смерила нас с головы до ног. — Ну, чего у порога стали? Как звать? Валя опередила меня, ответив за обоих. Видно, хозяйка была чем-то встревожена и возмущена. А тут еще мы оказались. — Все шляешься, пропадаешь! — накинулась она на мужа. — А мне за все отвечать! Были у нас черт да сатана, что звери вошли, вынь им да положь, а откуда возьмешь?! И она рассказала, как приехали гитлеровцы и все обшарили в подполе и в чулане. — Один из них долго здесь лопотал. Все краску хотел продать; а я ему говорю — у нас своей сажи много. Половики не дала, а квашню унесли. Дяденька в ответ опять произнес только свое «да» и начал снимать с Вали промокшие ботинки. Он положил их на лежанку, а Валю усадил на табуретку, подставил таз и начал намыливать ей ноги. — Думала, обойдется. А все из-за тебя! Припрятать надо было, закопать, как люди делают, а не ушами хлопать! — ворчала хозяйка, выгребая угли из печки. А я так обрадовался теплу! Прямо не верилось, что все это происходит на самом деле. Так и хотелось прислониться к печке и погладить рукой лежавшие подле ровные, сухие поленья. Хозяйка положила нам в глиняную миску ячменной каши и дала по соленому огурцу. — Похожи, — сказала она, глядя, как мы заработали ложками. Хлеб ржаной, нарезанный большими ломтями, лежал перед нами. Ешь вволю, как до войны. Хозяйка все хлопотала и приговаривала: — День завтра воскресный. Перед вечером зажгли лампадку в углу. Ставни закрыли. Лампадка замерцала, как звездочка,. И висячую керосиновую лампу зажгли. Еще раз к столу позвали чай пить из самовара, с постным сахаром. Я даже вспотел и от чая и от удовольствия. Чайник для заварки был такой же, как у нас дома, — с отбитым носиком. Мама все собиралась новый купить, но «курносый» все равно появлялся на столе. Хозяйка пила чай из блюдечка и все вспоминала бессовестных, что квашню и продукты унесли. — Ведь не чужими руками нажили. Из ее слов я узнал, что она второй раз замужем. Первый муж ее был, как она сказала, дьяконом; второго же своего мужа, дяденьку, который нас привел, она все время поругивала и даже за то, что он был дорожным мастером и на разных снимках с начальством снимался и грамоту ударника забыл со стены снять. Вот гитлеровцы и придрались к ней. — Как заладили «комиссар!»— еле отбоярилась. Она всех «комиссаров» сняла со стены, а чтобы пусто не было, достала из сундука карточку, на которой снята была с первым мужем после венца, и повесила ее. Держат друг друга под руку; на голове у нее веночек и в руках букет, а у него волосы до самых плеч. — Вот и пригодилась моя молодость, — сказала хозяйка и гневно посмотрела на дяденьку. А он сидел, как воды в рот набрал. Хозяйка взбила подушки и уложила Валю на свою кровать, а мне постелила на лавке в кухне. Все было непривычно: и крыша над головой, и лоскутное одеяло, а главное, настоящий сон — в те
пле. А где сейчас Оля, Шура, Галина, Вовка, Павлик? В моих ушах все еще звенел ледяной ветер. Ветер затих, и я услыхал шепот. Это разговаривали хозяева: — Сами по миру пойдем. Говорила тебе, закопай, а ты на своем настоял и еще два рта притащил. Зачем нам брат с сестрой? Своих не было, вот и не знаешь. Объедят они нас. Только ангелы с неба не просят хлеба. Был бы он один или девчонка одна. Хозяин только вздыхал. Потом он что-то сказал. Хозяйка ответила ему совсем громко: — Не они одни горемычные маются. Как привел, так и отведешь. Сам уходи, а я не оставлю двоих! Рано утром, когда все в доме спали, я поднялся, натянул свою стеганку, на прощание взял с полки ломоть хлеба, взглянул на блестящую ступку и вышел наружу. Я уходил не оглядываясь. Без меня Валю не выгонят. По дороге я сорвал два желтых огурца с грядки и с трудом втиснул их в карман стеганки. Огурцы, должно быть, придали мне воинственный вид. Недаром Вовка называл снаряды не иначе, как «огурцами». Холодно после тепла показалось. Я невольно съежился. Зато дяденьке не придется нас отводить. Я оставил Валю, но не чувствовал себя виноватым. Хоть чужое жилье, а жилье — есть где приклонить голову, и дядька заботливый. Мне почему-то стало его жалко: большой такой, а живет, как сирота. «Был бы он один или девчонка одна», — шептала хозяйка. Вот я и опять один. Только не сбиться бы с пути и выйти на дорогу. Я прибавил шагу. Все было погружено в белесый мрак; из него выплывали то колючий кустарник, то валявшиеся разбитые телеги, повозки, и снова все затягивалось пеленой. Коченели руки, и я то и дело согревал их за пазухой. Когда стало светлей, я вышел на дорогу и увидел на столбе немецкую стрелу — значит, там Сталинград! Я залез в придорожную канаву и начал вести разведку. По дороге, рыча, проносились грузовые автомашины. Слышно было, как впереди громыхали танки. Промелькнули бензозаправщики. А потом пошли автомашины, наполненные солдатами. Как шальной, пролетел зеленый широкий штабной автобус, а вслед за ним появились грузовики, накрытые брезентом. Мне даже показалось, что, проезжая мимо меня, они приседают под тяжестью груза. Одна из таких машин остановилась у самой обочины. Подполз еще ближе. Шофер раскрыл капот, что-то посмотрел, а потом пошел вперед по дороге. В кабине же грузовика сидели два немца и громко разговаривали. Вдруг из кабины понеслись звуки музыки. Это они заводили патефон. Одну пластинку они поставили будто для меня: Кто привык за победу бороться, Я вылез из канавы, оглянулся, подошел сзади к грузовику. Подпрыгнул, ухватился рукой за черный высокий борт и с трудом вскарабкался, боясь выронить огурцы; потом приподнял брезент и благополучно юркнул под него на ящики. Машина долго не трогалась с места. К грузовику кто-то подошел. Я испугался: как бы он тоже не полез в кузов. Потом я услышал, как булькает вода. Значит, шофер вернулся. Машина задрожала и понеслась. Под брезентом также было холодно. У меня от «веселого ветра» горело лицо и потрескались губы. Я уцепился рукой за ребро ящика и крепко держался, так, чтобы не выпасть из машины. Несколько раз грузовик замедлял ход. Что, если сейчас он остановится и немцы стащат брезент? .. «Скажу, еду маму искать, — решил я. — А будут приставать, дам огурец». Машина несколько раз останавливалась, но ненадолго. Когда же шофер заглушил мотор, я выглянул из-под брезента, увидел развалины и услыхал привычный мне грохот и свист. Даже местность показалась знакомой. Отсюда недалеко и Красные казармы. Я ухватился рукой за борт, перелез через него, повис и спрыгнул. Быстро свернул в сторону и снова зашагал по знакомым кварталам, будто я и не покидал Сталинград. Все так же у берега Волги не прекращалась битва, дымилась земля и развалины озарялись бледными вспышками. Гитлеровцы уже не пыжились. У них и походка изменилась. Стали торопиться, будто кто их подгонял или заставлял бегать наперегонки. Кругом кипели уличные бои. А в Дзержинском районе, на улицах ближе к вокзалу, все еще было как в тылу. Здесь стояли их кухни, склады, мастерские, маскировались машины. В блиндажах, землянках и подвалах все еще жили наши: старики, дети, больные. Им больше не грозили угоном. Куда угонять, когда сами гитлеровцы окружены. Мы уже хорошо знали о том, что началось наступление наших войск. Немецкие солдаты на все лады стали повторять такое милое всем нам, ютившимся в норах, слово «капут». Теперь я искал не только сестренку, но и «бабку» свою Наталью. От хлеба не осталось ни крошки, и я только думал: что бы поесть? Шура исчезла так же, как и Оля. Как говорят, и след простыл! В блиндажах было много стариков и старух. Никогда раньше я не видел столько старых людей. Глаза у них впали и помутнели, но все они были очень любопытными. Куда ни придешь, начинали расспрашивать о том, что наверху делается; спрашивали, уже не обращая внимания на то, что я маленький. Многим я непременно кого-то напоминал. И со мной делились последним куском. Однажды, когда в поисках пищи я рылся в помойной яме, рядом со мной оказался узкоплечий человек. Он ко всему приглядывался и шарил палкой. Лицо его было бледное, усталое, виски седые, а бороду, редкую и колючую, видно, отпустил недавно. Он увидел меня и обрадовался. Мне показалось, что он вот-вот упадет. — Давай вместе искать, — сказал он и закашлял. Я усадил его на нижние ступеньки развалившейся каменной лестницы и стал смотреть по сторонам. Ничего не увидел и пошел дальше. Вскоре наткнулся я на целую кучу еще теплых конских кишок. Узкоплечий обрадовался моей добыче, подскочил, когда увидел меня, и сразу же заторопился. Я нес кишки, а он все время забегал вперед, показывая дорогу. Звали его Агафоном. Он, должно быть, боялся, как бы я не раздумал и не убежал от него с драгоценной ношей. Мы шли, прижимаясь к развалинам, перелезая через наваленные груды щебня, а посередине мостовой шагали гитлеровцы. Отсюда было совсем близко до площади, где над развалинами возвышалось уцелевшее здание 3-го Дома Советов — военная комендатура. Мы спустились в полуподвал. Невысокая, очень худая женщина с грудным ребенком на руках первым делом посмотрела на кишки. Дядя Агафон познакомил меня с ней и сказал: — Ульяна у нас всеми карточками заведует. Только отоваривать нечем. Будешь у нее агентом по снабжению. Меня встретили, как желанного гостя. Я же по достоинству оценил пышущую жаром плиту, уставленную горшками с водой. На досках лежали люди, прикрытые рваным цветным ковром; вскоре и я улегся рядом. Здесь определилась моя новая специальность. Ежедневно, когда чуть светало и затихал обстрел, я отправлялся искать пищу. Захватчики доедали свою конницу. Каждая лошадь была ободрана до самых костей. Кишки и кожу они еще выбрасывали, и надо было вовремя их обнаружить. О конине я и не мечтал. Все обитатели полуподвала с нетерпением ждали моего возвращения. Когда мне удавалось добыть кости, тетя Ульяна варила холодец. Кожу она долго палила перед варкой и промывала кипятком. Стало трудно и с водой. Ударили морозы. Волга покрылась плотной коркой льда. Первый снег недолго сверкал белизной. Он почернел, посерел и покрылся ржаво-бурыми пятнами. Снег заменял нам воду. Глотаешь снег, а все равно воды хочется. Разыскивая пищу, я чувствовал себя по крайней мере артиллерийским наблюдателем, только без стереотрубы. И мне надо было все видеть, да так, чтобы самому оставаться незамеченным. Все трудней и трудней стало добывать еду. Я бродил невдалеке от здания военной комендатуры. Там стояли кухни. Гитлеровцы около них не были такими голодными, как другие. Там чаще можно было напасть на отбросы. Как-то я увидел — солдат комендатуры вылил огуречный рассол. Я выждал и, когда можно было подойти ближе, дощечкой собрал замерзший рассол, которому тетя Ульяна очень обрадовалась, так как у нас не было соли. Слезы соленые, — говорила Ульяна, — подсо лила бы, а слез нет. Наши слезы не соленые, а горькие, — возразил ей кто-то. А им еще горше будет. Узнают, почем фунт со ли, — сказал дядя Агафон. Стоило ему только услыхать знакомый рокот на- ших дальних бомбардировщиков или ночников, как он начинал тихонько насвистывать авиамарш. Ревут моторы, а он свистит. — Эге! Слаба кишка! Зашатались, — говорил он под гул снарядов. Когда в августе началась бомбежка, дядя Агафон находился в больнице. Выскочил он оттуда в халате, побежал к дому, а там одни обломки. У дяди Агафона вся семья погибла. Он об этом никогда не говорил. Мне тетя Ульяна рассказала. Неладно было у него со здоровьем. Много болезней к нему привязалось. Лежит он, бывало, на печке, губы кусает, за грудь рукой схватится, под глазами мешки. Но с того дня, как мы узнали из листовки, что гитлеровцы окружены под Сталинградом, он словно выздоровел. Дядя Агафон всяческие виды видал. Был он по профессии не то контролером, не то ревизором. Не мог я разобрать, где он работал — на железной дороге, в бухгалтерии или в театре. Вернулся я как-то со своей «охоты», а он меня спрашивает: — Ну, молодой человек, что слышно на театре военных действий? Я никак не мог понять, что это за театр? А дядя Агафон засмеялся: — А разве ты не заметил, что декорации ме няются? И объяснил мне, что уж давно местность, где происходят сражения, называют театром военных действий. Неудачно это придумано: какой это театр? Дядя Агафон иногда даже каким-то образом узнавал, что передают в утренних и вечерних сводках Сов-информбюро. А кроме того, мы научились читать эту сводку и по глазам немцев. Один раз я видел, как немецкий солдат попался на глаза какому-то гитлеровскому начальству. В черном блестящем плаще начальник вышел из машины, окруженный целой сворой офицеров, и направился к блиндажу, куда со всех сторон тянулись провода. Из блиндажа то и дело выбегали военные с бумагами и папками в руках. Все те, кто встречался с этим высоким, вытягивались и застывали на месте. А находившийся на посту солдат стоял к нему спиной. На его голову была натянута смятая смешная пилотка. Он не слышал ни громких возгласов, ни приближавшихся к нему шагов. Он стоял, поеживаясь от холода, втянув голову в поднятый воротник тоненькой, рваной шинели. Он переминался с ноги на ногу, дул в кулак, разжимал его и даже не обернулся, когда с ним поравнялся «крупный калибр». Тот так гаркнул, что солдат чуть не свалился. Важный чин пошел дальше, а следовавший за ним офицер носком сапога с силой ударил солдата. Мне запомнилось его небритое лицо: он моргал глазами, они слезились, и слезы размазались по его небритому белесому лицу, по губам, покрытым лихорадкой. А мне в стеганке было не холодно. Я раскрутил ее длинные рукава, они чуть не доставали до земли, но зато заменяли рукавицы. Однажды падал снег. Все стало белым. Я невольно вспомнил про салазки. Спрятавшись в развалинах, я смотрел через оконную нишу первого этажа, не сводя глаз с места, где однажды повар из комендатуры вылил огуречный рассол. Из подъезда гитлеровский офицер вывел на снег босую женщину и начал бить ее нагайкой по голой спине. Я отвернулся, когда услышал, как женщина застонала. Потом ее увели. Прошло немного времени, и меня окликнул парнишка на костылях. Я уже несколько раз встречался с ним. Несмотря на костыли, он рыскал повсюду. — Видал? — спросил он меня. Я кивнул головой, а он рассердился: — Ничего ты не видал! Вылезай, посмотри на балкон. Я вылез и посмотрел. Она стояла на балконе, прислонившись к перилам. Гитлеровец что-то кричал ей в самое ухо. Ветер разметал ее волосы. Она резко повернула голову. И мне показалось, что она похожа на Шуру. ...Потом при встрече парнишка на костылях рассказал мне, что женщина, которую гитлеровцы пытали на балконе, осталась жива. И у нас в полуподвале говорили о том, что ее, нагую, после допроса на балконе, бросили в холодную камеру, но она не замерзла, а убежала. Одни видели ее под туннелем на улице Огарева; другие же слыхали, что ее укрыли где-то на Хоперской... Захватчики с каждым днем становились все злее. Прежде они отбирали белую муку, а теперь, врываясь, первым делом допытывались: «Конь ист?» Они всех ощупывали, выворачивали карманы, лезли под кровать и в мусоре по зернышку собирали просо. — В поле и жук мясо! —- мрачно говорила тетя Ульяна. Гитлеровцы поймали и сварили на плите лохматого, желтого Дружка — дворняжку, жившую у нас в полуподвале. Запомнился мне один грузный немец. Очки в золотой оправе, глаза как щелки. У него была маленькая голова, будто с другого мужчины. Макушка голая. Все время закутывал свою шею длинным малиновым шарфом. Голова маленькая, а рот большой и жадный. Он протянул вперед указательный палец, словно хотел измерить температуру воздуха. Я в это время достал стеклянную банку, которую посчастливилось мне найти на помойке. К краям банки присохли остатки варенья. Я пытался снять их мокрым пальцем. А немец с маленькой головой дул на свой палец: «Бр.. . фр». Открыл рот: — Пломба очень холодно, — сказал он по-русски. А потом дотронулся до головы, задрожал и произнес: — Волос холодно! Он вытащил из кармана колоду карт, достал одну из них и закричал: — Туз! Туз! — Он помахал картой перед самым носом дяди Агафона: — Туз тоже холодно! Дядя Агафон вздрогнул. Видно, боль снова схватила его. Немец же обернулся, наставил на меня свои блестящие щелки и, увидев, как я облизываю палец, вырвал банку из моих рук, разбил ее и начал языком облизывать осколки. Как досадно было, что он завладел банкой! Шла величайшая в истории человечества битва, а я только помню, что мне тогда очень хотелось есть... Кружилась голова, и я часто глотал слюну. Как-то вдруг разом все смолкло. Мы так отвыкли от тишины, что стало жутко. Дня два было тихо. И все даже вздохнули, когда снова из-за Волги ударила наша дальнобойная артиллерия. ...А есть с каждым днем хотелось сильнее. Я где-то слыхал, что медведи в таких случаях сосут лапу. И я засунул пальцы в рот и представил, как поднимается пар над миской горячих щей. Растаявший снег не утолял жажду. Нас спасали зерна, их Ульяна парила и раздавала нам по три — четыре ложечки в день. К счастью, она подобрала сброшенный с немецкого самолета мешок с сухарями. Тетя Ульяна припрятала его и выдавала по сухарю. Жуешь его как можно дольше, чтобы лучше насытиться. Но и сухари подходили к концу. С каждым днем, с каждым часом все слышней и слышней становился треск автоматов. — Наша берет! — говорил пожелтевший дядя Агафон, уже давно не встававший с железной койки. Он кусал губы от острой боли и часто просил пить. Дальнобойная артиллерия била с левого берега Волги. На мерзлой земле рвались наши авиабомбы. Весь воздух был пробуравлен советскими снарядами; от разрывов кипела земля. Дядя Агафон на локтях приподнимался с койки. Я стал его постоянным собеседником. — Слышишь, какая самодеятельность? — говорил он. — Наши идут! И все слушал далекие выстрелы. Это было для него единственным лекарством. В полуподвале было тепло. Гитлеровцев набиралось в него так много, что нельзя было шагнуть и нечем было дышать. Они дрались и ссорились из-за места, расталкивали друг друга. В один из таких дней в подвал ввалилась большая группа фашистов. Они шагали по телам, валявшимся на полу. Не обращая внимания на стоны дяди Агафона, они уселись на его койку. Тетя Ульяна умоляла их отойти. — Видите, больной помирает! Но они ничего не хотели видеть. Собрав последние силы, дядя Агафон приподнялся, должно быть, хотел столкнуть их с кровати. А они только и старались, как бы усесться поудобней. Как только тетя Ульяна не ругала захватчиков! — Пулю бы тебе, гад, в черепину! — говорила она, потянув одного из гитлеровцев за рукав шинели. Они схватили дядю Агафона и потащили к выходу. — Германский солдат капут! Иван тоже капут! — крикнул кто-то из них. Я испугался, как бы тетя Ульяна не выронила из рук ребенка. Она стояла пораженная, притихшая, будто все слова застряли у нее в горле. В это время один из гитлеровцев начал стаскивать с меня стеганку. Я еле держался на ногах. Он стянул стеганку, примерил ее и, так как она была ему мала, накинул на плечи, как платок. Он схватил меня за волосы, потянул, приподнял и вышвырнул за дверь, наподдав ногой. Падая, я слыхал, как он выругал меня: — Маленький вшивый свинья! Тетю Ульяну тоже вытолкнул из подвала. Она бегала по морозу, вся дрожала, прижимая к себе плачущего ребенка. — Уля, теплой воды! — услыхал я глухой голос дяди Агафона. Было очень холодно. Кружилась голова, меня трясло. Как хорошо бы укрыться хоть в самой маленькой норке. Я растирал грязным снегом то нос, то щеки; пальцы еле шевелились. А потом показалось, что руки и ноги не мои, будто стою на каких-то подставках и вот-вот свалюсь. Вдруг стало так хорошо, приятно и сладко. Сильная, загорелая Шура шла ко мне навстречу. Не в черном старушечьем балахоне, а в голубой майке с белым воротничком... «Держись, Гена, держись!» — кричала она мне издалека. А потом я услыхал русские слова — с кем-то разговаривала тетя Ульяна и плакала. Наши артиллеристы все ближе и ближе выкатывали пушки. Уже выстрелы совпадали с разрывами. Еле держась на ногах, я сделал несколько шагов вперед. Люди в белых халатах разговаривали с тетей Ульяной. И тогда я прежде всего вспомнил отца. Ведь среди них мог быть и мой папа. Сквозь дым я увидел на шапке человека в полушубке алую пятиконечную звезду... Люди в белых халатах разговаривали с тетей Ульяной. Не знаю, что произошло со мной и как оказался я под накатом блиндажа. Вначале показалось, будто плыву куда-то и волны сами несут меня, как бумажный кораблик. Хотел шевельнуть рукой и не смог. Лежал с открытыми глазами, пытаясь сообразить, где я и что со мной происходит. Так ничего и не сообразил, — снова поплыл. Мне хотелось пить. Я закричал что есть силы. Но свое'го голоса не услышал. Потом почудилось, что мы с ребятами на цветущем лугу в горелки играем. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Сзади отец стоит. Сейчас наклонится и поднесет мне к губам кружку с водой. Но отца не было, а пить хотелось все сильней. Я обрадовался, когда услышал какие-то звуки, будто издалека. Пальба не пальба, канонада не канонада, а самый обыкновенный храп. И тут над самым моим ухом прогремел голос: — Очнулся паренек! Кто-то поднес мне воды. Как сейчас помню вкус первых глотков. Это может понять только тот, кто всю зиму вместо воды глотал снег, безвкусный, как мел. Я и теперь всегда наслаждаюсь, когда пью воду прямо из-под крана или из колодца, прохладную и такую свежую. Так же, как первый глоток воды, запомнил я вкус хлеба. Мне налили в котелок мясных щей. Какой шел от них пар! Это не то что три — четыре ложки запарен ной ржи. Должно быть, я тогда опьянел от одного аромата щей и уронил котелок—так ослабели пальцы. Язык с трудом повиновался. Хочешь сказать, а слова застревают. Не говорил я тогда, а бормотал что-то невнятное. Может быть, поэтому так заботились обо мне бойцы, находившиеся в этом блиндаже. Каждый старался сделать мне что-нибудь хорошее. Надели на меня длинную красноармейскую рубаху. Рукава болтались, словно плети. Тогда кто-то предложил их укоротить. Эта «операция» была произведена не ножницами, а ножом с красивой рукояткой, которым резали хлеб. Все принимали участие и в моем переобувании. — Видать, ты, паренек, в пехоте служил, — про изнес боец, обладавший громким голосом. Он выкинул мои разлезшиеся ботинки из блиндажа, завернул мои ноги в теплые портянки, а потом сунул их в кирзовые сапоги. Сам же он прыгал на одной ноге, так как другая была забинтована. Он приподнял меня, поставил на ноги и скомандовал: — Шире шаг! Только шагнул я, как ноги подкосились, но он вовремя подхватил меня и усадил к себе на колено. Какой он был приветливый и шутливый! От него пахло душистой махоркой. И кисет у него был особенный. Он даже передо мной хвастался своим бархатным кисетом со словами, вышитыми на нем красными нитками: «Курите на здоровье!» Когда он медленно завертывал цигарку, обязательно произносил-: — Какое же здесь здоровье! Он дал мне свою зажигалку, и я играл ею. Пальцы стали послушней, и я с удовольствием то зажигал, то тушил ее. От всех бойцов, входивших в блиндаж, пахло морозом. Они приходили такие краснощекие, здоровые, в теплых валенках, в коротких серых полушубках, со спущенными ушами меховых шапок. Снимали полушубки, ватники; даже у меня под головой лежал ватник. Весело бывало в блиндаже. Обрадовался я, когда услышал гармошку, не губную, как у немцев, а нашу, настоящую. А когда один из бойцов заиграл на гитаре, вспомнил я артиллериста Орлова и его любимые песни. Узнал я и о том, что совсем плохо стало немцам, покатились они вверх тормашками; не пустили фашистов к Волге. Все знали, что я сталинградец, и называли меня Геннадием Ивановичем. Прошел всего день-два, но котелок больше не выпадал из моих рук и голова не кружилась. В новых сапогах я уже прохаживался по блиндажу. А громкий боец (даже имя его не запомнил) все сокрушался, что нет у меня настоящей заправочки. Он раздобыл для меня поясной ремень, половину которого отрезал — бритву точить. Он очень любил бриться сам и брить товарищей. Достанет из вещевого мешка зеркальце, завернутое в тряпочку, разложит свое имущество да как начнет лицо намыливать — только пена во все стороны летит. Он больше всех расспрашивал меня про Сталинград. Я называл ему улицы, какие только помнил, а он громко, как диктор по радио, повторял их за мной. Все красноармейцы прислушивались к нашим занятиям. Они удивлялись, что была у нас улица и Большая Франция, и Малая Франция и даже Балканы. — Не город, а атлас мира, — сказал кто-то. Всем нравилось, что у нас в городе была Солнечная улица, Арбузная и даже Веселая. Один боец обрадовался, когда услыхал про Невскую улицу. — Моя река! — сказал он с гордостью. А другой тут же заинтересовался, нет ли у нас Онежской улицы, и пояснил, что сам он с Онеги. Когда я ответил, что не слыхал про такую улицу, он так огорчился, что пришлось мне поправиться: Должно быть, есть! То-то! — сказал он многозначительно. Я уж не стал его спрашивать, где такая Онега. Другой красноармеец не поверил мне, когда я вспомнил и про улицу Шекспира. Рассердился я тогда на него. Улегся на доски, накрывшись шинелью, а сам все разглядывал входивших бойцов. Вдруг в таком же полушубке с поднятым воротником, с автоматом за плечом войдет мой отец. Я уже дремать начал, как услыхал: — Сюда, Соколов! Вот здесь! Я встрепенулся, вскочил и ринулся навстречу. Задрожали губы, кровь прилила к щекам. В блиндаж вошел Соколов, только это был не мой папа. Хоть бы чуточку был на него похож! Лучше бы он и не приходил сюда, этот человек с моей фамилией... Потом в блиндаж вошли две женщины. Одна высокая, в сапогах; ее длинная шинель перекрещена ремнями от кобуры пистолета и полевой сумки. Рядом же с ней была Александра Павловна. Я сразу узнал ее, несмотря на то что заострилось ее лицо. Волосы, как всегда, выбивались из-под платка, стеганая куртка расстегнута. Александра Павловна бросилась ко мне, начала целовать. — Вот Фекла-то будет рада! Нашелся наш солда-тенок! Я обрадовался Александре Павловне. Высокая женщина, про которую Александра Павловна сказала, что она председательница районного Совета, записала мое имя и фамилию в свою записную книжечку. А Александра Павловна, как всегда, заторопилась. — Вот только с делами управлюсь, за тобой приду, — сказала она. Женщины ушли, а меня в блиндаже все стали про них расспрашивать. Я рассказал все, что знал, и Феклу Егоровну вспомнил. Через несколько дней Александра Павловна снова пришла в блиндаж. Громкий боец одернул мне рубашку: — Смирно! Встал я по стойке, а он доволен: — Ну, теперь похож на сталинградца! Подарил он мне на прощание кусок туалетного мыла в нарядной обертке и обрызгал тройным одеколоном. Я даже не успел глаза зажмурить. Подпрыгивая на здоровой ноге, он все говорил, что после войны обязательно приедет в Сталинград и меня разыщет. Я в этом нисколько не сомневался — ведь он никуда из блиндажа не уходил, а столько знал названий сталинградских улиц! Александра Павловна усадила меня в санки, погрузила на них какую-то поклажу и повезла по узкой снежной тропе, вдоль склона берега, изрытого землянками и ходами сообщения. Недавно здесь, совсем рядом, проходила линия фронта. Я щурился от дневного света. Вдалеке что-то прогремит, потом стихнет, а земля не дрожит — успокоилась. Тропинка вилась мимо запорошенных снегом окопов. Отовсюду торчали концы колючей проволоки. Мы обогнали какую-то женщину с узелком в руке. Она шла пригнувшись. Александра Павловна окликнула ее, а та ничего не ответила, будто и не слыхала. Натолкнулись мы на длинную вереницу пленных. Александра Павловна остановилась. Долго проходили они мимо нас. Такими я их еще не видел. Они все сгорбились, даже самые высокие, похожие на жерди, втягивали головы в плечи. Не шли, а еле плелись, все какие-то исцарапанные, лохматые, серые, закутанные по-бабьи в платки, маскировочные накидки, какие-то тряпки. Александра Павловна строго оглядывала их с ног до головы. А они, казалось мне, от нас отворачиваются, а некоторые даже при этом глазами моргают... «Как хорошо, что им так плохо», — подумал я. Долго проходили они мимо нас. Пересекли мы развороченный железнодорожный путь, где раньше мимо зеленых палисадников так весело проносились трамваи и пригородные поезда. Вот наконец и Мамаев курган. Александра Павловна остановилась у хибарки: — Встречайте гостя! В дверях появилась Фекла Егоровна. Я сразу же заметил — совсем другие волосы стали у нее: посеклись и поредели. — Ах ты, миленький мой, и не узнала бы тебя! И девчонки мне показались очень худенькими. Курчавая Агаша почернела, но все тараторила, как раньше. Юлька смотрела на меня исподлобья. Павлик же заметно поздоровел. Вовка одобрительно хлопнул меня по плечу. Я сразу же оценил его внешний вид. Вовка был вооружен с ног до головы: сзади болтался трофейный парабеллум, а на боку — футляр на ремешке. — Ну что ж, Гена, молчишь? — обеспокоилась Фекла Егоровна. — Александра-то наша по всему Ста линграду таких, как ты, собирает. Может, и сестра твоя найдется. Фекла Егоровна разводила гороховый концентрат в банке из-под консервов. Она хлопотала у большого ящика, превращенного в стол. Я попросил у Вовки бинокль. Так захотелось мне опять посмотреть в него! Вовка не отказал. Я вышел из домика и первым делом наставил бинокль на небо. Оно было синее-синее. Долго смотрел в небо сквозь стекла, пока от яркого света не заслезились глаза. А потом смотрел вокруг уже без бинокля. Все было усыпано гильзами и осколками. Из-под снега торчали противотанковые надолбы, виднелись заржавленные, продырявленные пулями и осколками немецкие каски земляного цвета. Куда ни глянешь—-стволы орудий, согнутые пропеллеры, черные трубы минометов. Еще недавно здесь, над самым ухом, шипели снаряды. Все свистело, скрежетало, каждый осколочек' нес смерть. И теперь еще все пахнет гарью и дымом. .Фекла Егоровна, Александра Павловна и Вовка вскоре ушли. Мне же поручили смотреть за малышами. Всем нам было строго приказано никуда не выходить из домика. Но это приказание было совершенно напрасным, так как Фекла Егоровна заперла дверь на висячий замок. Я обратил внимание на ее коричневые башмаки из темной кожи на толстой подошве с шипами. Тяжело было Фекле Егоровне шагать в такой обувке. Эти башмаки раздобыл Вовка. Он называл их итальянскими скороходами и прищелкивал языком, отсчитывая в такт шагам матери: — Раз — два — три! Мне сразу стало очень тоскливо. Юлька подперла рукой голову, Агаша вначале захныкала, а потом приумолкла, прильнув к небольшому оконцу. Я не знал, о чем говорить с ней, как развлекать. Стало боязно, ; что мы остались одни. Кругом так непривычно тихо. Кроме того, никак я не мог смириться с тем, что сижу взаперти, когда Красная Армия выгнала фашистов из Сталинграда. Сколько месяцев жил я в несмолкаемом шуме и не вздрагивал, а теперь, когда стихло, чуть скрипнет где-то или раздастся одинокий выстрел, все внутри обрывалось. Особенно стало не по себе, когда все мы услыхали рокот самолетов. Отсюда не видно было, наши это или их — с черными крестами. Я оглянулся и увидел на стене гитару с двумя оборванными струна
ми. Не напрасно, значит, волочила ее за собой Юлька прошлой осенью. Я снял гитару и, воображая себя Орловым, забренчал по струнам. Павлик, размахивая ножками, первый выразил свое одобрение. Я старался вовсю, играя на трех струнах, как на балалайке. А когда перестал Играть и обвел глазами свою «публику», взяла гитару Юлька. Она задумалась и начала перебирать пальцами, заботясь, по-видимому, больше всего, как бы не Уронить гитару. А потом к ней подполз и Павлик. Он схватил струну и, потянув ее, покраснел. Гитара задре- безжала, а Павлик воинственно забарабанил по ней ногами. Он еще раз поднатужился и сорвал струну, а потом вцепился Юльке в волосы и начал их тянуть, также стараясь изо всех сил. Наконец щелкнул замок, и Фекла Егоровна и Александра Павловна появились в дверях. Вскоре и Вовка пришел — принес доски. Оказывается, все они сегодня были на площади Павших Борцов на митинге в честь победы над фашистами. — Давно мы так много людей не видели. Стоят наши защитники, и мы рядом с ними. Только мало нас, жителей, осталось. А площадь большая. Сколько, бывало, на ней народу собиралось! Видимо-невидимо... — говорила Фекла Егоровна. — Заиграл духовой оркестр... Мучались — не плакали, а здесь удержу нет! Ну, думаю, держись, Фекла! Теперь придется еще меньше спать, работы хватит! Вовка не только рассказал, но и показал, как проходили бойцы по площади церемониальным маршем. Вовка хвастался, что ему посчастливилось козырнуть самому гвардии генералу, который заметил его и ответил на приветствие. — Я к этому генералу пойду служить, — выпалил Вовка. Завидно мне стало, что все это они видели. Как жалел я, что не пришлось и мне кричать «ура» там, на площади. И только тут мелькнуло: «Искал Олю, а теперь вдруг рукой махнул». И сразу завертелось: «Может, и отец мой шагал по площади». Голова закружилась, когда я представил нашу встречу. И я решил: нечего мне здесь больше торчать с малышами, надо отца разыскивать. Вовка побежал на Мамаев курган за водой к роднику. Фекла Егоровна принялась растапливать печурку. Александра Павловна с саперной лопаткой в руке пошла выкапывать какие-то вещи из ямы. Вечером над Сталинградом поднялись красные, зеленые, оранжевые, ослепительно белые ракеты. На этот раз они не указывали, куда вести огонь. Они сияли над небывалым полем битвы, над городом, который стал героем! Рано утром, когда все спали и чуть светил фитилек лампы, сделанной из сплющенной в верхней части снарядной гильзы, я перешагнул через спящих, тихонько приоткрыл дверь и выскользнул из домика. Завыл ветер, а я шел не оглядываясь, куда глаза глядят. За мной никто не бежал, не догонял меня, а я спешил скорей уйти от домика, где спали сейчас такие добрые ко мне люди. «Чего же я ушел?» —думал я, поеживаясь от колючего ветра. Я сбился с тропинки, потом упал в какую-то яму, расшиб себе нос, а когда вылез, все так же шел неизвестно куда, подгоняемый ветром. Я шел в ту сторону, где мы жили, туда, где все разрушила проклятая бомба. Мне казалось, что немцы снова кричат мне во все горло: «Цурюк!», «Вэг!», что они меня сейчас схватят. Я споткнулся. Далеко отлетела шапка. Но уже развиднелось, я увидел ее на снегу, снова нахлобучил и пошел. Так пусто кругом! Встревоженная моим появлением, из черного пустого окна прыгнула кошка. В этих домах жили наши родные, наши знакомые. Я наткнулся на труп девушки в военном. Рядом лежала на снегу санитарная сумка. С каждым шагом становилось все светлей. Кругом ни одного живого человека. И вот я у того места, где стоял наш дом. Здесь на земле лежала тогда мамина белая косынка с ярко-красным пятном. Даже пепла и уголька не осталось, все унес ветер и смыли дожди. Там, где мы жили, ничего нет. Только чугунок без дна да остроконечная обгорелая труба. Тех, кто убил мою маму, настигла расплата. И меня они хотели убить, а теперь застыли здесь, раскинув руки. Я старался больше не смотреть на них, а потом и вовсе перестал замечать. Я побрел туда, где похоронили маму. Но не обнаружил следов могилы. Снаряды и здесь все перепахали. Прямо передо мной лежала туша огромной лошади с куцым хвостом. Рядом — разбитые немецкие танки, размалеванные желтым, под цвет песка. Из люка одного танка торчала рука убитого. Только потом узнал я, что эти танки были переброшены в Сталинград из далекой Африки. Я побрел туда, где похоронили маму. Меня потянуло к «Красному Октябрю». Может быть, хоть там что-нибудь узнаю об отце. По временам все вздрагивало, будто снова возникал бой. Боец с миноискателем в руке шел мне наперерез. — Куда тебя несет? — окликнул он меня. Я остановился. Боец подошел ближе. — Ты что, малыш, хочешь на тот свет прямо без пересадки? Я недоуменно посмотрел на него. — По минному полю шагаешь. Жми назад по своим же следам. Несколько раз на моем пути вставали минеры. Они прокладывали узкую тропинку к заводу. То там, то здесь виднелись вытянутые ими из снега мины, похожие то на плоские коробки, то на консервные банки. Многие тогда на них подрывались. Пахло ржавым и горелым. Куда ни взглянешь, всюду груды бетона, изогнутые железные прутья, переплетенные между собой. Как будто весь наш город стал огромным шихтовым двором. Ни одной целой стены. Надо мной висели страш- ные скрипучие лестницы и оголенные прогнувшиеся балки. Вот-вот качнет их ветром, и 'они рухнут. Я шел по снегу, пропитанному кровью, наталкиваясь то на железные пулеметные ленты, похожие на змеи, то на металлические футляры и ящики, на ноги обглоданных лошадей. Добрался я в конце концов до «Красного Октября». Постоял несколько минут у заводских ворот, вижу — человек в военном полушубке идет, а треух у него без звездочки. Не знал, как обратиться, а поэтому произнес только одно слово: — Дяденька! — Я, племянник, — ответил он добродушно. — А ты откуда вылез такой? Рассказал я ему, что ищу отца, который на «Красном Октябре» работал. Только произнес фамилию отца, как дяденька оживился: — Как же, как же, не только слыхал, а очень хо рошо помню Соколова Ивана Сергеевича. Вот какой у него сынок! Никак он не мог понять, как же это я здесь рядом с ним оказался. Совестно было признаться, что я от Александры Павловны удрал. Объяснил, что нашел пристанище у одной сталинградской тетки, а сюда пришел об отце узнать. — Э, брат, разве сейчас что узнаешь! Вот подожди, устроимся здесь, тогда, может быть, и разберемся. Я ведь только из Челябинска сюда прибыл. А ты при ходи, обязательно приходи. Кто же Соколова не знал! Он человек толковый, не ты его, так он тебя найдет. — Дяденька, а как, жив отец? Он помолчал, а потом сказал: Не сомневаюсь. Сталевар огня не боится. В кабинке разбитой машины застыл гитлеровец. Видно, автоматная очередь поразила его, когда он мчался по шоссе. Все эти солдаты, валявшиеся сейчас на нашей земле, рвались к Волге. — Ну что ж, приходи. Адрес у нас сейчас известный: Сталинград. Сам не знаю, где ночевать буду. Запомни мою фамилию: инженер Панков... Как это я сразу не догадался — у меня в карманах целый продовольственный склад, а ты без гостинца уходишь. — Он порылся в своем полушубке и сунул мне в руку небольшой сверточек. — Так не забывай! — сказал он и по-взрослому пожал мне руку. Уходил я и думал: хоть отца не нашел и ничего не узнал, а все-таки хорошо, что с дяденькой встретился. Ведь он знал и помнил моего отца. И тогда я развернул сверточек. Сало лежало на толстом куске шоколада. Давно я не видел ни того, ни другого. У меня слюнки потекли, и я отломил кусок шоколада и вместе с салом направил его в рот. Оказалось, не так уж плохо. Эх, если бы сейчас найти Олю! Вот бы пир устроили. Остановился я, чтобы свернуть свои богатства и спрятать в карман, вижу — у груды кирпичей мальчишка стоит и со свертка моего глаз не сводит. Пройду мимо него как ни в чем не бывало. Я сразу заметил, что глаза у этого мальчишки как-то странно блестят. Сейчас прыгнет на меня, как кошка. И чтобы этого не произошло, я первый крикнул ему: — Ну, что уставился? — И, сжав кулаки, прошел мимо. Прошел, а потом оглянулся. Вижу, он идет за мной. И сразу я почему-то понял, что и он меня боится. Неужели я такой страшный? Может быть, и ему ка жется, что у меня глаза горят? Он молча подошел и остановился. Я отломил кусок шоколада и протянул ему: — На, ешь! Он схватил шоколад, продолжая таращить на меня огромные глаза. — Ешь! — закричал я ему и сам испугался своего голоса. Оказывается, и я могу неплохо командовать. А он держит шоколад в руке, будто не знает, что с ним делать, или боится, как бы я не отнял. Тогда я спросил его, уже не повышая голоса: — Звать-то тебя как? Ну что стоишь, ну что смотришь? Или шоколада не видал? Я схватил мальчишку за руку. Можно сказать, насильно запихал ему в рот шоколад. Ну, думаю, теперь и ему сладко. А он нехотя стал жевать, будто есть разучился. Это и не удивило меня тогда. Так ничего я от него и не добился, только теперь он уже шел не сзади, а рядом. Куда я, туда и он. А ветер так и хлещет, залезает в рукава. Откуда-то сверху сорвался и загромыхал железный лист. Когда надо о ком-то заботиться, сразу чувствуешь себя старше. Мне показалось, что у мальчишки побелели щеки. Я схватил снег и стал тереть ему лицо. Он не сопротивлялся и, как теперь мне казалось, смотрел на меня совсем иначе. Потом он оживился, тоже схватил снег и начал растирать мои щеки. Мы подошли к походной кухне. У костра грелись бойцы. Увидев нас, кашевар взмахнул черпаком и рассмеялся, заметив, что у меня нет котелка. Сам раздобыл откуда-то огромную миску и ложки дал. Другой боец отрезал нам по куску черного хлеба и соль на бумажку насыпал. — Ну, как же тебя звать? — спросил я мальчишку, когда согрелся.— Ну, кто ты: Васька, Колька, Петька'? Я даже вздрогнул, когда впервые услыхал его слегка хриповатый голос. Он повторял за мной: «Васька, Колька, Петька». Не помня себя я начал трясти его. А он все повторяет как заводной: «Васька, Колька, Петька». Одно я понял: он не глухой и не немой. Значит, можно ему все растолковать. И я опять начал: — Вот меня зовут Геной, Геннадий Соколов. Ну, а ты кто? Он задумался, а потом сказал: Я тоже Геннадий Соколов. Скажи пожалуйста, тезка! Я сталинградский, а ты откуда?. У него опять заблестели глаза, он начал вертеть головой, а потом ткнул рукой вперед и произнес: — Оттуда! Я понял — ничего мне от него не добиться. Но, так или иначе, я приобрел спутника. Губы его были в трещинах и легких ссадинах; весь он был какой-то колючий, казалось, никаким гребешком в мире не расчесать его жесткие волосы. Они торчали во все стороны и лезли ему в глаза. Стоило только его спросить о том, что с ним раньше было, как он побледнеет, нахмурится, уставится в одну точку, силясь что-то вспомнить. Расскажешь ему что, а он тебе то же самое о себе рассказывает. И слушать неохота. Беспамятный, а такой фантазер! Этот мальчик стал потом моим большим другом. Когда же теперь я вспоминаю о начале нашей дружбы, я не могу сказать, что он понравился мне с первого взгляда, но не ошибусь, если скажу, что в первый же день нашего знакомства мы как-то потянулись друг к другу. После того как накормили нас бойцы, вышли мы на берег Волги к памятнику Хользунову. Мой земляк-летчик лежал на земле у взорванного гранитного своего пьедестала. Все было изрыто окопами и траншеями. К Волге по тропинке спускались и поднимались бойцы с ведрами, котелками и канистрами. Начало смеркаться. Мы опять пошли к центру. В сумерках среди развалин всегда страшно, будто каждая дыра желает тебя проглотить. Красноармейцы разбирали кирпичи и доставали из-под щебня и мусора разбросанные книги. Здесь, должно быть, когда-то был склад или книжный мага-?'зин. Некоторые набрали целые охапки книг. Я смотрел на каменные коробки обуглившихся зданий и на одной стене разглядел: висят на ремешке коньки «снегурочка», а в одном окне я увидел придавленную тяжелым обломком клетку для птиц. Коньки были мне ни к чему. Шел я и еще думал: не лучше ли вернуться обратно к Александре Павловне на Мамаев курган? Ведь там в тесноте и нам двоим место найдется. А может быть, разыскать блиндаж на волжском берегу? Мы опять подошли к костру. Бойцы пропустили нас вперед. Только мы протянули руки к огню, как какой-то рослый дяденька в полушубке, но со звездой на шапке сразу же начал нас расспрашивать. Конечно, отвечал я один. Он спросил, не хочется ли нам есть, не простыли ли; потом схватил нас за руки и потащил за собой, больше ни о чем не спрашивая. Держал он нас крепко, будто боялся, что мы можем вырваться. Только перешли полотно железной дороги, как Васька-Колька-Петька вдруг остановился. Военный забеспокоился: — Ты не стесняйся, брат, садись-ка на меня верхом, так мы скорей дойдем. — А я туда не пойду, — закричал мой беспамятный. — Я знаю, куда ты ведешь нас. — Знаешь? — удивился военный. — Знаю! А все равно оттуда убегу. Там фамилию спрашивают. — Правильно! — невозмутимо сказал военный и потащил нас дальше. Вскоре он предупредил: — Здесь ступеньки! Мы вошли в комнату, освещенную коптилкой. Таким уютным показался мне тогда ее тусклый свет! Я даже не сразу разобрал, что поднявшаяся нам навстречу женщина была Александра Павловна. Она сразу же узнала меня, но и виду не подала. — Принимайте друзей! У костра грелись. — Как фамилия? — спросила меня Александра Павловна. Сгорая со стыда, я ответил. Александра Павловна строго посмотрела на моего маленького спутника и произнесла: — С тобой мы тоже знакомы. Всю ночь не спал, бродишь. Опять запишу тебя. И Александра Павловна вздохнула: — Бесфамильный. А может быть, вспомнил, как тебя звать? Бесфамильный мотнул головой и зашмыгал носом. — Сережей звать его, Сережей! — сказал я Александре Павловне. Я уже привык отвечать за него. А это имя мне почему-то нравилось больше других. Я думал, что Александра Павловна начнет меня бранить. А она только взяла за руку и сказала: — Вовка ушел от нас. Гвардейцем хочет стать... — Ну я пойду, — перебил ее военный, — может быть, еще кого ночью приведу. Беда. А убегать не советую, — обратился он к нам. — Подумаешь, беглецы-близнецы! Александра Павловна помогла нам раздеться и все время как бы сама с собой разговаривала: — Вот и хорошо, что пришел; Фекла все б
еспо коилась, как бы на мине не подорвался или какой бал кой не придавило. Вот, Гена, какое мы для вас жилье сооружаем. А работы здесь сколько! Хорошо, с потол ком справились, не валится больше. Пол настелили. Мы с Сережей легли рядом не раздеваясь. Александра Павловна долго не отходила. Она поцеловала меня в лоб и провела несколько раз рукой по голове. Как хотелось мне тогда схватить ее за руку и не отпускать от себя! Но Александра Павловна уже гладила Сережу. Я поразился тому, как он сказал: Вы такая, же хорошая, как мама! Маму вспомнил, — радостно воскликнула Але ксандра Павловна. Сережа ей ничего не ответил. Александра Павловна прикрыла нас плащ-палаткой и отошла, а мы долго лежали молча. Каждый думал о своем. Кто-то громко кричал во сне. Мы обнялись и вскоре заснули. Проснулся я раньше Сережи и опять не сразу сообразил, где я. Я вскочил и сделал несколько шагов по комнате. Всюду лежали ребята, закутанные в трофейные шинели, в какие-то половики, тряпки. В темноте трудно было разглядеть, у кого какие волосы. Я осмелел и стал вглядываться в спящих. Кто-то застонал. В углу, сидя на кирпичах, дремала Александра Павловна. Я терпеливо ждал наступления утра. Проснулись все разом. Одна девчонка заревела, и этот рев сразу же был дружно поддержан со всех сторон. Я посмотрел на своего соседа. Неужели и он, как только проснется, сразу заплачет? А он проснулся и сказал с ожесточением: — Опять ревут! Убегу! Александра Павловна бросилась к плачущим. Так начался день на новом месте. Свет проникал только сквозь щели, и днем здесь все так же мигала коптилка. Утром на помощь Александре Павловне пришли другие женщины. Каждая из них что-нибудь держала в руке: ведро, утюг, топор. Одни кормили малышей, другие что-то скребли, перешивали из старого красноармейского белья. Александра Павловна всех подбадривала и шутила: — Я сама несерьезная, а народ подбираю серьезный. У нас у всех двигатели внутреннего сгорания — вот и держимся. И мы с Сережей получили задание: очищать лопатой кирпичи от присохшей глины. Этими кирпичами надо было заделать пробоины в стене. А потом мы ободрали зеркало, которое должно было заменить оконное стекло. Через несколько дней мы обходились уже без коптилки. В комнате стало светло. В один просвет вместо фанеры было вставлено зеркало; в другой — стекло от автомашины; третье же было составлено из небольших фотопластинок. Какие мы все были тогда заморыши! Кто в гнидах, кто в болячках, десны кровоточили, многие ходить не могли. Потому, должно быть, стоило только одному заплакать, как плакали все. Конечно, не я и не Сережа. Мы были самыми старшими, и Александра Павловна давала нам одно поручение за другим. Кухня была за квартал от детского приемника. Там уцелела большая печь и хлеб замешивали в ванне, очень белой и чистой. Все мы тогда никак не могли насытиться и были похожи на жадных птенцов. Принесли нам одного мальчугана. Ножки тоненькие, как ниточки, а живот большой. Был он весь в шрамах, ожогах; даже взрослые боялись до него дотронуться. Кто бы ни подходил к нему — он дрожал и всех сторонился; по временам начинал кричать: — Капустки горсточку! А одна девочка была очень бледная, прозрачная, как стеклышко. Закрывала глаза руками, боялась света. Чуть посмотрит на свет — слезы текут и от боли плачет. Помню, как однажды кто-то тихонько постучал в дверь. Это был командир. Он держал на руках девочку, завернутую в меховую телогрейку. Она спала, и командир боялся ее потревожить. Девочка так и не проснулась, когда ее водворили в наш дом. Командир просил оставить телогрейку девочке. И еще он просил назвать ее Надеждой и, если не найдутся ее родители, Михайловной. — Это я Михаил, — сказал он негромко. — Я и фамилию для нее придумал, пока нес: Сталинградская. С такой фамилией я ее везде найду, — добавил он и еще раз посмотрел на девочку. Где она сейчас, Надежда Михайловна Сталинградская? А другого малыша — лет двух — к нам принесли танкисты. Они вытащили мальчика из какой-то ямы, он был весь в крови, но, когда его вымыли, оказалось, кровь на нем чужая. Только обмыли его, он улыбнулся. Поэтому и прозвали его «Маленький, да удаленький». В нашем домике становилось все тесней. Днем я и Сережа старались как можно скорей уйти из нашего шумного дома. Мы стали с ним вроде трофейной команды. Отдирали мешковину, которой были обиты потолки фашистских блиндажей; собирали посуду, ролики, пятнистые плащ-палатки, походные фляги в суконных чехольчиках, коробки порошка от пота ног, огарки свечей, всевозможные флаконы и баночки. Один раз огромную перину приволокли. Из немецких блиндажей долго не выветривался какой-то особенный запах, пахло какой-то дезинфекцией, лекарством. В одном из них было разбросано много открыток с изображением военного с клоком волос на лбу. — Главный фашист, Гитлер, — пояснил я Сереже. Он схватил открытки и начал гвоздем прокалывать глаза Адольфу. Таким я еще не видел Сережу. Он дрожал, топал ногами, все в нем клокотало. По дороге обратно он прицелился и швырнул кирпичом в огромную сосульку. Она рухнула вниз с куском карниза. Сережа еле успел отскочить. Он долго не мог успокоиться и продолжал с ожесточением сбивать сосульки. Я так и не знал, кто он и откуда. Сережа ничего, ничего не знал о себе; все время мучительно старался что-то вспомнить. Но все, что происходило недавно, он помнил отлично. Сережа был проворен и очень легок, двигался почти бесшумно и видел так, будто в каждом его глазу было по стереотрубе. Это он в одном из дворов обнаружил нераспакованные снаряды, завернутые в бумагу, густо смазанные каким-то жиром; не раз подзывал он минеров и показывал на заминированные приманки, начиненные смертью. Я даже надеялся, что Сергей поможет мне найти Олю. Как-то стали мы просить, чтобы для нас в детском приемнике елку устроили. .. .Елка упиралась в самый потолок. Украсили ее петушками и бабочками: навесили пульки, ролики, кубики какао в красной обертке, полученные в подарок от бойцов. Много тогда гостей у нас побывало. С Тракторного завода пришла невысокая девушка в военном полушубке. Сразу показалась она мне очень знакомой. А когда подружки назвали ее Лидой, я вспомнил подвал и щель, пробитую в стене. Все так и ахнули: к нам в гости и сам дед-мороз пожаловал. На нем был вывернутый полушубок и снежная борода из белой ваты. Всем хотелось потрогать деда-мороза за бороду. Дед-мороз взял в руки автомат и начал рассказывать о деде-партизане, будто про себя. До сих пор запомнилось мне: Кто он — дед? Во что одет? Спросил я Лиду про Шуру, но вокруг нее шумели девочки, и она невнимательно слушала меня. Когда же я несколько раз настойчиво повторил свой вопрос и сказал, что Шура была высокой и членские взносы в райкоме комсомола собирала, Лида сразу внимательно на меня посмотрела, задумалась и сказала: — Мы дружили. Все меня уговаривала в парашютный кружок записаться. Я недавно отца ее, капитана, на переправе встретила. Говорит, Шура жива и невредима. Долго писем от нее не было, а потом сразу в один день целую пачку получил. Пишет ему, что сейчас она на каких-то курсах... А ты откуда ее знаешь?, — спросила Лида, но, не дождавшись моего ответа, сказала: — Теперь парашютисты нужны! Хотел я попросить Лиду, чтобы узнала она Шурин адрес у капитана, но потом решил — больше не буду к ней приставать. Лида сама ко мне подошла: Кто она тебе, Шура, знакомая или родствен ница? Бабушка Наталья Антоновна! — выпалил я по прежней привычке. Лида посмотрела на меня с удивлением, но больше ни о чем не спросила. Не узнала меня, видно, Лида. И я почему-то о себе не напомнил. Сережа пристально смотрел на меня своими глазищами. На Сережу многие невольно обращали внимание, чувствуя на себе его долгий взгляд. — Ну, что смотришь? — спрашивали его дружелюбно. Сережа же в ответ нахмурится, тряхнет головой, но ничего не скажет. Привезли к нам новую партию детей. Я первым делом оглядел всех девочек. Худенькие, пожелтевшие... У многих из них ноги были обернуты какими-то тряпками. У одной, когда ее снимали с машины, с ног свалился в лужу валенок. Я взглянул на нее и сразу узнал Валю. Подбежал к луже, схватил валенок и с радостным криком протянул его Вале. Да, это была она, и по тому, как блеснули ее глаза, я понял, что и она узнала меня. Валя прижала валенок к себе, а сама сделала шаг в мою сторону. Она обнимала валенок, а я обнял ее вместе с валенком. И нам обоим почему-то стало очень смешно. Мы не знали, с чего начать разговор. Нас заметила Александра Павловна. Я уже знал, что она всегда все видит. И вот Валя уже сидит на койке. Ее ноги обернуты стеганым одеялом. Она внимательно смотрит на меня большими темными глазами, чуть нахмурив густые бровки. Первым делом я спросил про Галину, но Валя, конечно, ничего не могла мне сказать о сестре. Мне хотелось узнать, что случилось с Валей после того, как мы расстались, и она рассказывала мне, как несладко было ей... Как только местность, где жила Валя, была освобождена, хозяйка сама отвезла Валю в районный центр, а на прощание даже прослезилась и первый раз за все время поцеловала. Долго мы болтали о разных вещах и не заметили, что Сергей Бесфамильный не сводил глаз с Вали, прислушивался к каждому ее слову. Солнышко с каждым днем пригревало все сильней. Александра Павловна стала реже бывать в детском приемнике. Она получила тогда новое задание. Уже повеяло весной, а земля все еще хранила запах битвы. Все только и занимались тем, что вытягивали гитлеровцев из-под снега, складывали в кучи и куда-то свозили. Слов нет, противная была это работа, но недаром Александра Павловна говорила: «Чтоб и духу фашистского не осталось на сталинградской земле!» Сережа все время на улицу рвался. Мы несколько раз ходили в центр города. Мосты через Царицу были 'взорваны... Пешеходы перебирались по временному настилу. Отсюда, как всегда, хорошо виднелся элеватор — единственное уцелевшее здание на огромном пространстве. Вся Царица была забита трупами. Из Заволжья со своими подводами приехали колхозники в Сталинград «на уборочную». Везли «завоевателей» и на волах и на верблюдах. Пленные фашисты тянули крючками своих мертвецов, не добежавших до Волги. Нагрузили ими арбу, а верблюды легли на снег; видно, не хотелось им такой «груз» возить. Один верблюд повернул свою маленькую голову и заорал диким голосом. С трудом подняли его. В центре города, на одном из углов, стоял столик с надписью: «До востребования». Здесь же продавали конверты и марки. Сережу почему-то тянуло именно к этому столику. Он смотрел исподлобья на тех, кто тут же получал письма и под открытым небом писал ответ. — Давай купим конверт, — предложил он мне, — напишем кому-нибудь. — А кому писать? — спросил я. — Твоему отцу. — А куда? — Куда-нибудь. Однажды Сережа так осмелел, что подошел к женщине, стоявшей за столиком, и попросил конверт. Она дала ему сразу несколько штук. Сережа сложил их и сунул за пазуху. В те дни, когда уже почернел снег и все ярче светило солнце, воины покидали наш город. Александра Павловна взяла меня и Сережу на проводы. С гвардейской частью уходил на запад и Вовка. На весеннем солнце он еще больше покрылся веснушками и весь сверкал, как конфета в золотой обертке. На его груди, с правой стороны, красовался новенький почетный знак «Гвардия». Как и на всех, на нем были недавно введенные погоны — полевые, зеленого цвета. Фекла Егоровна заплакала. Александра Павловна прикрикнула на нее и крепко обняла Вовку. А Сережа-то, хоть и беспамятный, а только увидел рыжеволосого Вовку, сразу полез с ним целоваться и, сунув ему в карман синих галифе сложенный вчетверо конверт, сказал: — Пришли мне обратно. Много жителей собралось провожать гвардейцев. Заиграл оркестр. Гвардии рядовой Вовка ловко перемахнул за борт грузовика. Мать протянула ему новенький заплечный мешок. Сережа не сводил с Вовки своих огненных глаз. Загромыхали тягачи и орудия. Подпрыгивали прицепленные к автомашинам минометы. Как обрадовался я, когда из одной машины мне кто-то крикнул и помахал рукой: — Геннадий Иванович! Конечно, это был боец, обладавший громким голосом. Скоро совсем опустел город. Редко встретишь военного. И ветер стал злее. Как завоет, все заскрипит кругом, застонет. Ночью несколько раз пролетали «адольфы» и бомбили развалины. Около нашего детского приемника тротуар очистили от мусора и обломков. И нас уже несколько раз «скребли» в бане, устроенной в красноармейском блиндаже на берегу Волги. Над одним блиндажом красовалась дощечка с надписью «Парикмахерская». Но парикмахерша в дневные часы работала под открытым небом. У блиндажа стоял вертящийся круглый стул. Я несколько раз на нем повертелся. Остригли нас под машинку номер нуль. Как ни в чем не бывало напялил Сережа на стриженую голову румынскую овчинную шапку с острым верхом. Она накрыла его до самого подбородка. — А ты в нее солому подложи, — посоветовал я. После этого он долго носил шапку в руке, пока не догадался перевернуть ее мехом внутрь. В блиндажах и на командных пунктах на крутом берегу Волги после ухода воинов поселились жители. Над берегом вились дымки от печурок. Повсюду было развешано белье. Где только не жили тогда в Сталинграде: и в кабинах сбитых самолетов, и под лестничными клетками... ... Настала и наша очередь покинуть детский приемник. Александра Павловна успокаивала, говорила, что детдом недалеко от Сталинграда, что она будет всех нас навещать. А меня и Сережу она уже несколько раз называла лоботрясами. Недалеко от нашего детского приемника, в подвале одного разрушенного дома, уже открылась школа, в которую шлепали по лужам, очищенным от мин, мои сверстники, жившие с мамками, тетками и бабушками. У многих за плечами болтались рыжие трофейные ранцы из телячьей кожи. Нам же Александра Павловна сказала: — В детдоме, на воздухе, быстро поправитесь. А там и в школу пойдете. Как мне не хотелось уезжать из Сталинграда! Но Сережа успокаивал: — Не понравится, убежим. В самом слове «детдом» больше всего меня манило понятие — дом. Интересно было узнать, что это за дом? «Он, должно быть, на горе стоит, — думал я. — И оттуда далеко видно, как с Мамаева кургана». Был уже конец марта. На Волге потемнел лед. К детскому приемнику подкатила машина. Александра Павловна усадила Валю в кабине. Онэ закутала ее теплым платком. А нас рассадили в кузове на мешках и накрыли одеялами. Нас прово-жали женщины, ухаживавшие за нами в детском приемнике. Только шофер начал заводить машину, вздрогнула она, зафырчала, а девчонки
как завоют: — Мама! Мама! Грузовик понесся мимо развалин. То там, то здесь вились дымки. И почему-то в это время я думал об одной женщине. Я узнал про нее недавно. Рассказывали, что, когда у нее на руках фашистским осколком была убита дочь, она обезумела и начала хватать девочек, которые бежали к Волге. Как это я не догадался сразу! Это она, именно она подхватила тогда Олю! Я ни минуты не сомневался, что обязательно встречусь с Олей. Будто машина мчала меня к ней навстречу. В пути мы часто останавливались: шофер выходил с лопатой из кабины, пробовал талую дорогу, боясь наехать на мину. Часто забирался под машину и вылезал из-под нее потный и красный. Один раз нас выручили военные из встречной полуторатонки, и наш грузовик опять оказался на накатанной колее. Во время каждой остановки мы с Сережей вылезали из грузовика и старались как могли помочь шоферу. Вначале он прогнал нас, но мы не обиделись и притащили ему целую охапку веток. Наконец машина остановилась в последний раз. Откинули борт, и какие-то незнакомые женщины взяли на руки малышей. Одна из них хотела помочь Сереже, а он сам спрыгнул, но, по-видимому, у него подвернулась нога, и он бухнулся прямо в лужу. Мне протянул руку шофер. Несмотря на то что затекли ноги, я бы с удовольствием еще ехал и ехал... Стараясь скрыть свой неловкий прыжок, Сережа разминался, прыгая то на одной, то на другой ноге. — Как ты думаешь, куда нас привезли — на запад или на восток? — с таинственным видом спросил он меня. Я не задумываясь ответил: — На запад. Сережа толкнул меня в бок и громко крикнул: — На восток! Разочарованные, мы побрели к дому, похожему на длинный сарай. Там у крыльца распоряжалась высокая, широкоплечая женщина с непокрытой головой. Мы недоверчиво оглядывались кругом. Посередине двора лежала большая металлическая бочка из-под бензина. Не сговариваясь, мы одновременно ударили ее носками сапог, будто нам попалась под ноги обыкновенная жестянка. Бочка глухо отозвалась. Так вот он, дом, где нам жить и горевать по оставленному Сталинграду! Каким этот дом показался нам тогда неуютным и неприветливым! Стены голые, закопченные, свет тусклый; ни скамьи, ни табуретки. Сели мы тогда прямо на пол, и Сережа посмотрел на меня так, будто я в чем-то перед ним провинился. И еще запомнилось мне в пустой комнате большое зеркало — от пола до потолка. Вот перед ним стоит Валя, она смотрит на себя грустно и испуганно, подперев рукой щеку. Какая она худенькая! Я с любопытством взглянул на себя и не огорчился. Я вырос за это время. И я вспомнил, как отец раз в месяц, по первым числам, ставил меня у двери, клал на голову книгу в твердом переплете и карандашом проводил черту, отмечавшую мой рост. Высокую говорливую женщину с большими руками звали няней Дусей. Мы удивились, когда узнали, что не она здесь самая главная. Главной же оказалась женщина совсем небольшого роста. Это она первая спросила, как зовут меня. А Сережу сама назвала Сергеем. Он встрепенулся, а она в ответ провела ладонью по его волосам и сказала: — Жесткие! Вскоре всех нас раздели, и мы сидели голышом на полу, на каких-то подстилках. Даже вспомнить сейчас страшно, какая у многих была кожа: кто желтый весь, а кто будто пеплом посыпан. Стало холодно. Нас накрыли одеялами. Некоторые сжались в комочек. Сережа опустил голову на худые колени; он прикрывал ими кучку трофейного имущества, извлеченного из его карманов. У Вали дрожали плечи... Няня Дуся мыла нас в большом тазу. Нательную рубашку выдали мне тоже какого-то пепельного цвета. Она давно прохудилась на спине и треснула, когда я натягивал ее на себя. Мы думали, что наше белье сушится на весеннем солнце, но, как потом оказалось, у многих одежду просто сожгли. Мне с Сергеем повезло; наши гимнастерки и галифе защитного цвета пощадили, но, когда нам их вернули, они сильно пахли паленым. В своем военном обмундировании мы выглядели лучше всех. У нас было только по одной смене белья; его стирали золой по ночам. Ване Петрову досталась женская поношенная кофточка из бумазеи на кнопках. У Вани не действовала правая рука. Он и сам толком не мог рассказать, как это произошло; наверное, придавило его где-то. Рука безжизненно болталась. Ваня даже не мог пальцы сжать в кулак. Зато умел двигать ушами. Ваня состроил мне рожицу и засвистел, как чижик. Тут кто-то из ребят сказал ему: «Эх ты, сухорукий!» А Ваня в ответ только щелкнул языком. Во время медицинского осмотра наш врач Светлана Викторовна грустно посмотрела на Ваню, а он ей весело подмигнул. Сережа недоверчиво, исподлобья смотрел на врача. Она показалась ему слишком молоденькой, и он даже ничего не ответил на ее вопросы. А мне она сразу очень понравилась. Ведь и моей маме никто не верил, что у нее двое детей. От няни Дуси мы узнали, что, если бы не война, Светлана Викторовна еще училась бы. Война заставила ее стать врачом в более короткий срок, чтобы скорей попасть на фронт. Но попала она в маленький городок лечить таких фронтовиков, как мы. В первый же день нашего пребывания в детдоме она усердно вымазала всех зеленкой. Нас приводили в порядок. Няня Дуся никак не могла расчесать частым гребешком волосы нескладному и длинноногому Андрею Давыдову. — Жиру нет, одна перхоть, — приговаривала она сокрушаясь. А Андрюша только сопел. Так и хотелось его поддразнить. Один раз я дал ему легкий подзатыльник, но он остался и к нему равнодушным, посмотрел на меня недоумевающим взглядом и почему-то спросил: — Нет ли пороху? Я не знал, что ему ответить. Зачем ему понадобился порох? За обедом Андрюша, ко всему равнодушный, наспех глотал щи из кислой капусты, будто боялся, что у него отнимут его миску. И после он долго жевал, Как оказалось, ломоть хлеба он спрятал про запас. Сколько среди нас было тогда жадных! Боялись: а вдруг отнимут еду! Наступил вечер. Мы сидели в темноте. — Как ты думаешь, если мы убежим, будут нас искать? — спросил меня Сережа, когда мы улеглись на соломе. А я не успел ему даже ответить, сразу заснул. На следующий день, после завтрака, мы совершили с Сережей самовольную отлучку. С особым удовольствием прошмыгнул я вслед за Сережей в ворота, которые никто не сторожил. Оказалось, что в нашем детском доме много построек, все такие же ободранные, «без окон и дверей», как и главный корпус. Мы шлепали по лужам, с любопытством озираясь вокруг. Ну что это за «населенный пункт», когда его можно было, несмотря на непролазную грязь, обойти из конца в конец за какой-нибудь час! Так хотелось услышать хотя бы один заводской гудок! Но в «населенном пункте» не было ни одной настоящей фабричной трубы. Над городской пекарней, зданием электростанции и механической мастерской возвышались неказистые трубы. Первым делом через разобранную ограду мы проникли в городской сад. Обнаружили тир с разукрашенными мишенями и площадку для танцев. Мы узнали, что из городка на железнодорожную станцию обычно ходит автобус, но уже несколько дней, как автобус отдыхает во дворе пожарной команды, и все в городке с нетерпением ждут запоздавшую почту. В городке было очень тихо. Домики стояли как ни в чем не бывало; обыкновенный дым из труб медленно и спокойно поднимался вверх, как нарисованный на картинке. И так щемило сердце, когда я заглядывал в окна! Ведь подумать только — цветы в горшках, в кадушке фикус чуть не подпирает потолок. А на одном подоконнике — немецкая каска. В нее была насыпана земля, и в ней росли цветы. Сидит у окна женщина и крутит швейную машинку. И моя мама тоже никогда не сидела без дела, Я не видел ее без работы. Было странно, что взрослые люди протирают совершенно целые стекла в окнах; хозяйки вытрясают половики, а у женщины, которая шьет, вся грудь в булавках... Кот забрался на подоконник, щурится на солнце. Пахло весной. А меня все еще преследовал запах гари, жженой извести и золы. Все казалось, что кирпичная пыль, гонимая ветром из сталинградских улиц, продолжает и здесь лететь в глаза. И когда мы снова, никем не замеченные, прошмыгнули в ворота детдома, я опять, уже с ненавистью, взглянул на железную бочку из-под бензина. Я вспомнил, как свистели такие бочки, когда враги сбрасывали их только для того, чтобы напугать нас. Хотелось не просто толкнуть бочку носком сапога, а взять палку и колотить ее. Сережа наклонился над моим ухом и сказал: — Когда подсохнет, тогда и убежим. Но земля долго не просыхала. По утрам лужицы Покрывались тонким льдом, и мы шагали по ним, Наслаждаясь легким хрустом. Днем наступала теплынь. Текло с крыш. По желобам шумела вода. Нас тянуло на улицу, к ручейкам. Мы пускали по лужам бумажные кораблики, катушки от ниток и прочие богатства, не переводившиеся в наших карманах. Весенний поток принял от нас и такие жертвы, как деревянная, обгрызенная по краям ложка и спичечный коробок. Только поплыл наш коробок с прикрепленным к нему бумажным парусом, смотрим — какой-то старик с него глаз не спускает. Откуда он только взялся? Брови лохматые, весь заросший. Мы побежали за коробком. Вот он закружился на одном месте, и мы наклонились к нему. А старик оказался прытким. Он не отстал от нас и, опустив железную клюшку в воду, спросил: — Что это вы, братишки, над водой колдуете? Мы показали ему на коробок, а он заохал: — Как же это можно, спичечный коробок — да в воду? Я сам хожу к соседу за огоньком, а вы коробок выбросили! Не коробок, а кораблик, — поправил старика Сережа и подтолкнул коробок палкой. Сильная струя понесла его дальше, и мы побежали за ним. — Эх, ребятки, ребятки, разве можно такими ве щами бросаться? — кричал нам вдогонку старик. Вид но, и ему было интересно следить за тем, как плывет наш кораблик, но он отстал от нас. Мы услышали глухой кашель и обернулись. Старик даже согнулся, опираясь на свою палку. Мы подбежали к нему. — Больно? — спросил его Сережа. Старик ничего не ответил. — А ты, дедушка, не огорчайся. Мы тебе два таких коробка принесем, — обещал Сережа. — Что это вы, братишки, над водой колдуете? Старик благодарно кивнул головой и, одолев кашель, снова выпрямился. Сережа порылся в кармане и извлек оттуда настоящую трофейную зажигалку, о существовании которой даже я ничего не знал. У дедушки глаза заблестели. Сережа сунул зажигалку ему в руку. Как же мне тебя отблагодарить? — Ты, дедушка, не благодари. А лучше расскажи нам, как добраться до города Бугуруслана. Зачем тебе Бугуруслан? — удивился старик. Я слыхал, что в этом Бугуруслане нам помогут родных разыскать, — ответил Бесфамильный. Старик начал уверять Сережу, что незачем нам покидать городок, и отсюда можно письмо послать в любое место. Скоро здесь зацветет белая акация. Он звал нас летом на бахчи и рассказал, что в этом городке родился летчик, Герой Советского Союза, сбивший множество немецких самолетов. Своими изделиями славился здешний бондарный завод. А самое главное, в этом городке, в давнишние времена в недостроенном доме близ реки Невелички останавливался сам Разин Степан Тимофеевич, и этот дом до сих пор называют домом Степана Разина. Сережа многозначительно посмотрел на меня. Ведь мы и думать не могли, что в двухэтажном здании без крыши, которое ничем не привлекло наше внимание, жил когда-то человек, о котором распевают песни. Сережа заспешил, протянул руку нашему новому знакомому и потащил меня за собой. Мы спустились к реке. Вот и мостики, где хозяйки полоскали белье. Перелезли через плетень, прошли пустырь, миновали домик, крытый толем, перепрыгнули ров и подошли к двухэтажному дому. Он смотрел на нас пустыми впадинами окон, хотя стены его были добротные и прочные, как в крепости. Широкие ступени вели к двери, обитой железом. Мы навалились на нее всем телом. Дверь заскрипела и открылась. Мы оказались на втором этаже. Перешагнули через широкие бревна и увидели над собой стропила и прозрачное небо. Боязно было сделать шаг вперед: пол без досок ненадежен. Я прислонился к стене и посмотрел в окно, как в бойницу. Виднелись маленькие домишки и черные ветви деревьев. Мне показалось, что мы стоим на палубе корабля, обдуваемые ветром. Нас обдают брызги волн... И тут я (не знаю только, как это пришло мне в голову) спросил Сергея: — А ты когда-нибудь давал клятву? Сережа посмотрел на меня с удивлением. — Хочешь дать клятву? — Хочу! — Давай дадим клятву, что будем вместе до самой смерти. — Давай! — с восторгом крикнул Сережа и схва тил меня за руку. Мы пристально смотрели прямо в глаза друг другу. Отчетливо и с расстановкой произнесли клятву. И в этот торжественный момент над нами прозвучал громкий голос: — Всыпать бы вам, бесенята, как следует! На пороге стояла няня Дуся. — Весь город обыскали, а они вот где спрятались! Обратно мы возвращались втроем. Няня Дуся с решительным видом взяла нас за руки. А мы и не думали вырываться. Эх, няня Дуся, во все любила она нос совать! Не глядя под ноги, она перешагнула через ров, а мы при этом чуть не свалились в него. Она вела нас и приговаривала, что из-за нас Капитолина Ивановна зря беспокоилась, а мы, баловники, порядок нарушаем. Няня Дуся рассказала нам, что Капитолина Ивановна и до войны заведовала детским домом; всех детей сберегла, увезла их в тыл и только недавно вернулась. Няня Дуся привела нас прямо к Капитолине Ивановне и, подтолкнув вперед, произнесла: — Вот они, удальцы! Я думал, что Капитолина Ивановна начнет нас ругать, а она только посмотрела и спросила: — Ну как, проголодались?, Я уже распорядилась, чтобы обед вам оставили. И только тут я почувствовал, как мне хочется есть. В воскресный день к нам пришли гости со всего города, и почти все с подарками: кто молоко принес, кто простоквашу, кто книжку с картинками, кто школьную ручку... Городские комсомольцы взялись помочь нашему детдому. Пыль столбом поднялась! Откуда-то появились тюфяки и солома; на дворе пилили и кололи дрова. Как мы обрадовались, когда увидели на дворе знакомого старика с железной клюшкой. Мы уже знали, что зовут его Василием Кузьмичом. Он поспешил к нам навстречу, достал зажигалку, сжал ее в руке, и ровное маленькое пламя заколыхалось в воздухе. Конечно, он тут же потушил ее, сберегая бензин. За квартал от наших ворот разбирали разрушенный дом на кирпичи для ремонта зданий детдома. Люди вытянулись цепочкой. Один другому кирпич передавал. Казалось, кирпичи догоняют друг друга. Василий Кузьмич взвалил себе на спину какую-то доску, придерживая ее одной рукой, другой нес полное ведро воды. Он рассказал нам, что бондарил всю свою жизнь; сбил великое множество разных бо
чек и бочат, дубовых и кленовых, для масла, рыбы, вина и всяческих солений; бочка хоть и проста, а хитро придумана, толкнешь ее — она и движется под собственной тяжестью, только перекатывай с места на место. Самая незаменимая «посуда»! Закрыли завод на реконструкцию, а тут война подошла. Но теперь уже недолго ждать — снова зашумит бондарка... Наработались мы за день, зато молока попили вволю. Только улеглись спать, вошла к нам Капитолина Ивановна. Мне очень хотелось, чтобы она подошла ко мне. Сережа сделал вид, что он уже спит. Она легко прошла мимо нас, но вдруг обернулась и увидела, как мой друг, чуть приоткрыв глаза, посмотрел ей вслед. Я долго ворочался с боку на бок, не мог заснуть... И подумал, что не так уж плохо живется нам в детдоме, и пожалел, что Сережа почему-то решил бежать отсюда. А в этот момент Сережа, как бы рассуждая сам с собой, вслух произнес: — Еще пробудем здесь несколько дней! Как я ни старался, мне ни разу не удалось проснуться раньше Сережи. Только продеру глаза, а он уже смотрит, будто нарочно караулил мое пробуждение. И каждый раз Сережа приставал ко мне с тем же вопросом. Он хотел знать, какой сон приснился мне ночью. Я бы и рад рассказать, но разве всегда поймаешь то, что снится! Однажды мне снилось, что в наш городок приехали зенитчики, сбили немецкий самолет и я сел на него верхом. Сны снились самые разные. Часто приходила мама.. . То я видел дула орудий, накалившиеся докрасна от частой стрельбы, то плыл с отцом по Волге... О том, что мне снились мама и папа, я почему-то никогда не рассказывал Сереже. Он и так завидовал, что мне сны снятся. Ему же никогда ничего не снилось. Днем мы редко вспоминали войну, зато ночью она то и дело напоминала о себе. Даже звезды казались трассирующими пулями. Ночью, когда пролетал самолет, в детдоме все просыпались, поднимали отчаянный крик, долго не могли успокоиться. Как-то ясно слышу — автомат затрещал. Оглянулся кругом — никого нет, а автоматчик все бьет. Оказалось, это дятел стучит. В один из весенних дней с утра ничто не предвещало грозу. Откуда они только взялись тогда, черные, свинцовые тучи? Деревья на дворе пригнулись. Я вздрогнул, когда вдруг услышал орудийный залп: тахтарарах! Сверкнула молния, а вслед за ней опять удар. Многие полезли под стол и оттуда кричали: — Бомбят! Опять бомбят! А другие притихли. Может быть, когда началась война, даже взрослые люди приняли первые залпы и взрывы за удары грома, а нам весной 1943 года удары грома напомнили войну... Вот уже слышны не раскаты грома, а капли, падающие с потолка... Кап... кап... Значит, крыша течет. Гроза промчалась быстро, и опять прояснилось. Все стали храбрецами и высыпали на двор, шлепая босыми ногами по лужам. В это время к детдому подъехала грузовая машина. Опережая друг друга, мы побежали к ней. Мы всегда с интересом встречали «новеньких». В пути их застал ливень. Они промокли до нитки. Дождь перестал, а с них все еще текла вода. Все равно их всех переоденут, вычешут, подкрасят зеленкой. А самых изнуренных и больных Светлана Викторовна отправит в больницу. Няни помогали сойти с машины маленьким пассажирам, а они с тревогой озирались по сторонам, кто недоверчиво, а кто с любопытством. Я, по обыкновению, разглядывал девочек и заметил среди них одну черную-пречерную, глаза как угли. — К нам цыганка приехала! — закричали ребята. А это кто рядом с ней, совсем маленькая, в заплатанном мужском пиджаке? Какое у нее бледное лицо! Из-под платочка выбиваются белые волосы. Она как-то нетвердо стоит на ногах. Должно быть, ее так сильно оглушил гром. Вдруг она громко заплакала. Я встрепенулся. Слишком знаком мне был этот плач. Не может быть! Какие-то звуки вырвались из моего горла. Все во дворе смотрели на меня и на эту девочку. Я схватил Капитолину Ивановну за руку: — Это она! Капитолина Ивановна спросила ее: — Девочка, как тебя звать? — Оля, — ответила она сквозь слезы. Нет, это мне послышалось! Капитолина Ивановна крепко держала меня за руку. — Оля, а у тебя был брат? Девочка не успела ответить, как я бросился к ней, увлекая за собой Капитолину Ивановну. Оля перестала плакать и, замигав ресницами, спросила: — Где мама? Капитолина Ивановна тут же сняла с Оли пиджак. Мокрая майка, продранная на плечиках, прилипла к ее худенькому тельцу. Капитолина Ивановна завернула Олю в свой белый вязаный платок, подхватила и понесла к себе. Но тут же обернулась ко мне: — Ты, Гена, не скучай, ведь дольше не виделись! Няня Дуся подтолкнула меня: — Ну что стоишь! Видишь, как все рады: сестра твоя на молнии прилетела! Я побрел тогда к белому домику, в котором помещался изолятор, и там примостился на ступеньках. Долго не мог прийти в себя. В открытом окне ветер шевелил марлевые занавески. До меня доносился голос нашего врача, Светланы Викторовны. Она осматривала новеньких. Олю принесли последней. Я ловил каждое слово. — Придется остричь тебя. Ты не бойся, это машинка. Будешь как мальчишка — стрижкой-брижкой! Сестра моя только всхлипывала. Мне не терпелось взглянуть на Олю. Я подставил кирпич, дотянулся до подоконника и увидел Олю. Без волос она стала еще меньше. Оля тряхнула головой, а потом провела рукой по лбу, и лицо ее сразу омрачилось, она наморщила нос и заплакала. Светлана Викторовна не знала, как ее утешить. Она сунула ей в руку деревянную трубочку, которой выслушивала больных, а сама принялась со бирать с пола Олины волосы. Оля кинула трубку. Светлана Викторовна подняла ее и достала иг кармана книжечку. Я уже знал, что это за книжечка. — Посмотри на себя, — сказала Светлана Викторовна. Увидев себя в зеркальце, Оля сразу притихла. — Оглянуться не успеем, как вырастут у тебя косы, вокруг головы их будем укладывать. — Сказав это, Светлана Викторовна поправила свои темные косы. Оля рядом с ней была такой некрасивой! У бани я снова ждал Олю. Там ее приодели во все новое. — В самый раз, в самый раз, — повторяла тетя Феня. Тетя Феня, няня из корпуса, где будет жить Оля, не могла наглядеться на Олю, гладила ее по стриженой голове и даже хвасталась, что с ней девочка не плачет. Оля смотрела теперь на всех безучастными и сонными глазами. Дома у нас говорили: «С гуся вода, с Оли худоба!» И сейчас про себя я повторил эти слова. Ой, какая это была худоба! Тетя Феня снова закутала Олю в платок Капито-лины Ивановны и отнесла в корпус к малышам. Я шел рядом. Так не хотелось расставаться с Олей! Должно быть, боялся, как бы снова не потерять ее. Хотел искать ее по всему белу свету, а встретились мы так просто. Утром чуть свет я снова был у корпуса малышей. Не только мне, но и взрослым интересно было знать, что же произошло с Олей после того, как я ее потерял. До сих пор не могу понять, как все это произошло. То ли действительно ее схватила какая-то женщина, бежавшая к Волге, то ли засыпало землей и бойцы вытащили и спасли. Сестра помнила, что она видела большущего слона и другие дети его тоже видели. — Ты не видел? — спросила меня Оля. И пожа лела меня, когда я сказал, что не видел. Однажды она задумалась и сказала: — А я была совсем синяя. В другой раз вспомнила, что какая-то тетенька дала ей кусок сахару. Оля часто забивалась в угол и молча сидела одна, опустив глаза в землю. Раньше она была веселой и папа называл ее «пустосмешкой». Она любила забираться к папе на плечи. Смотрит оттуда сверху вниз, заливаясь громким смехом. А теперь будто кто подменил Олю. Даже Ваня Петров, как ни старался, не мог ее рассмешить. Светлана Викторовна раздобыла для Вани самые разные игрушки и палочки разноцветные. Целыми часами он сгибал, разгибал пальцы. Мы во дворе играем, а Ваня Петров — у врача. Мы его спрашиваем: Ну, а сегодня как тебя Светлана лечила? А он отвечает: — Волчок вертел. На наших глазах Ванина рука преображалась. — Из меня Светлана боксера сделает. Буду зимой .в снежки играть, — хвастался Ваня. Ваня и ушами двигал и рожицы строил, но не мог рассмешить Олю. Она смотрела на него насупившись. Ночью Оля просыпалась и начинала плакать. Сядет поперек кровати или стоит в одной рубашонке. Однажды Валя прилегла на Олину кровать и строго сказала ей: — Глаза закрой и усни! Сама Валя притворилась спящей. Оля прижалась к ней и заснула. С той ночи Оля привязалась к Вале. Как увидит ее, подбежит, уцепится и не отпускает. С утра до вечера мы бывали вместе. Оля любила греться на солнышке. А солнца всегда много в нашем городе. Черненькая девочка, прозванная цыганочкой Земфирой, тоже не помнила, что с ней произошло. Она уже жила в другом детдоме, где ее научили гадать и плясать. Как-то старшие девочки натянули на Земфиру длинную юбку. Земфира была вертлявая, любила прыгать. Она быстро запуталась в юбке и растянулась. Поднялась, стянула с себя юбку, бросила ее под ноги и начала танцевать, то плавно двигала руками, то покачивалась всем своим тоненьким телом. Мы все забили в ладоши. Оля же испугалась и расплакалась. Капитолина Ивановна несколько раз говорила мне, чтобы я чаще оставлял Олю с девочками. — Она все около тебя, как козочка. Так тоже нехорошо. Но, когда я уходил, Оля мрачнела и начинала плакать. Поэтому так уж получалось: куда я, туда и Оля. Это, конечно, не нравилось моему другу Сергею Бесфамильному. Он молча дулся на меня. Держался поодаль. А как-то презрительно процедил сквозь зубы: — Тоже покровитель! Я по всему видел, что Сережа не в своей тарелке. Все время, пока я был с Олей и Валей, он на пустырях и оврагах беспощадно уничтожал целые заросли крапивы. Он не щадил ее у заборов и плетней: крепкий прут так и свистел в его руке. Каждый день Сергей, как никто из нас, с нетерпением поджидал высокую девушку-почтальона Ольгу. Он бежал к ней навстречу и спрашивал одно и то же: А мне нет письма? Ольга всегда отвечала: Еще чернила разводят. А ты получше поищи в сумке, может, затерялось. Я давно письмо должен получить с фронта, — настойчиво твердил Сережа. Как-то, вволю нахлестав своего «жгучего врага», он подозвал меня. Я оставил Олю и Валю. Сережа не хотел, чтобы нас слышали, и потянул меня за рукав. Мы отошли в сторону, и он сообщил мне свою тайну. И ему наконец приснился сон, но о том, что видел, он может рассказать только в доме Степана Разина. Сережа потащил меня к берегу Невелички. Мы забрались на второй этаж, туда, где давали клятву друг другу. Сережа посмотрел по сторонам и, когда убедился, 5 что никто нас не слышит и не видит, сказал: — Я видел во сне Чапаева. Он подъехал ко мне на коне и сказал: «Поезжайте на фронт фашистов бить». Шея коня и грудь Чапаева были обвиты пулеметными лентами. — И Сережа для большей наглядности скре стил руки на груди. — Как только приедем на фронт, нам выдадут сабли! Я молчал. — Твоя Оля никуда не денется, — сказал Сережа, как бы отвечая на мои мысли. Он порылся в кармане и протянул мне большую перламутровую пуговицу: — У меня таких две. Это орден Чапаева. На станцию мы пойдем пешком, а когда нас догонит автобус, мы покажем ордена, и нас довезут. Теперь молчок. Ладно, — сказал я. Береги орден и никому не показывай, — преду предил Сережа. Назад в детдом мы вернулись разными дорогами. Меня уже искали, так как Оля расхныкалась. Мне стало жалко сестру. Я подумал, что будет с ней, когда я убегу. А бежать придется. Я не удержался и тут же протянул Оле пуговицу, объяснив, что это «орден Чапаева». Она сжала ее в Руке и долго не выпускала. Валя пришила перламутровую пуговицу ей на платье. Девочки завистливо поглядывали на Олю. Ни у кого из них не было такой драгоценности. Мы начали играть с ребятами в «куликушки» — так называли у нас в детдоме игру в прятки. Самое трудное было найти место, которое еще было неизвестным, поэтому мы прятались с каждым разом все дальше и дальше — ведь наш детдом растянулся на целый квартал. Я стянул с веревки сушившийся на солнце мешок и залез в него. И вот что произошло, пока я прятался. Сережа проходил по двору. Увидел на Оле «орден Чапаева», подбежал к ней, толкнул, а когда она упала, схватил рукой пуговицу и начал тащить ее. Услышав вопль, я стянул с себя мешок и увидел: Оля лежит на земле, Андрей с ходулей свалился, а Сергей бежит в мою сторону. Я побежал ему навстречу. Он остановился. Его лицо покраснело. Он сжимал кулаки. Как мне хотелось на него наброситься и наколошматить! До сих пор не знаю, почему я этого не сделал. Сережа сжал губы. Я думал, что он бросится наутек, а он замер на месте. Таким он бывал, когда, нахмурившись, силился что-то вспомнить. Я оставил его и поспешил к Оле. Валя помогла ей подняться, стряхивала землю с ее волос. — Как он мог так! Погоди! — крикнула она. Оля дрожала; сквозь слезы я мог разобрать толь ко одно: — Зашейте мне платьице! Оказывается, Сережа вырвал пуговицу вместе с материей. Его отвели к Капитолине Ивановне. Мы не видели его ни за обедом, ни за ужином. Нам рассказали, что он лежит плашмя на кровати Капитолины Ивановны, уткнувшись лицом в подушку, и горько плачет. Что бы ни говорила ему Капитолина Ивановна, он отвечал только одно: — Я не хочу жить в вашем детдоме, убегу! А когда Капитолина Ивановна спросила его, что же ему не нравится в детдоме, он долго не отвечал, а потом сквозь слезы пробурчал: — Койки не нравятся... Он наотрез отказался просить прощения. На следующий день Сережа сидел за общим столом, но ни с кем не разговаривал. На меня он не смотрел. — Эх ты, на кого налетел! — сказала ему няня Дуся. Капитолина Ивановна строго на нее посмотрела. После обеда — во время тихого часа — койка Сережи была пуста. Он не пришел и к ужину. Его искали и в доме Степана Разина, и в городском саду, и на чердаках. Как в воду канул! Обыскали складское помещение и двор бондарной мастерской — не залез ли в пустую бочку. Няня Дуся даже в газетный киоск заглянула. — Взмахнул крыльями и улетел, — говорила она, сокрушаясь. Няня Дуся побывала и на квартире у старого бондаря Василия Кузьмича. Он взял свою палку и пришел в детдом; не уходил от нас дотемна, все ждал, не появится ли вдруг «беспамятный, а смышленый». Капитолина Ивановна была очень расстроена. Она несколько раз ходила в милицию, и к нам пришел милиционер. Все спрашивал меня о Сереже. Я рассказал о том, что Сережа видел во сне Чапаева и звал меня с собой на фронт или в город Бугуруслан. Засыпая, я виновато посмотрел на пустую койку. Я подбадривал себя, ругая
Сережу. Тоже друг — на-дружил: избил сестренку из-за какой-то пуговицы! Обойдемся и без него. Но тут же другой голос возражал: «И это называется быть вместе до самой смерти» Сам радовался, а друг горевал. Дернуло же меня похвастаться пуговицей. Разве так держат слово? Я был уверен, что он поехал не в Бугуруслан, а на фронт. Может быть, он встретится там с рыжеволосым Вовкой. И я решил: если бы Сережа появился, я бы простил его. Сестру нашел, а друга близкого потерял. Может быть, он сейчас бросает гранату в окно фашистского штаба или, став адъютантом известного сталинградского генерала Родимцева, с наблюдательного пункта смотрит в бинокль... Еше недавно Оля ни о чем не спрашивала, ничем не интересовалась. Но шли дни, она поправлялась и уже не только смотрела, как другие играют, но и сама придумывала разные игры. Как-то на берегу домашние, или, как мы их называли, родительские, девочки играли в продавцов и покупательниц, «отоваривали карточки». «Покупатели», повязанные головными платками, становились в очередь и чернильным карандашом выводили на ладонях номера. Одна девочка протягивала другой бумажку, а та ей отпускала колбасу из глины... У наших же девочек такая игра не получалась, зато они подолгу играли в раненых и санитарок, доставляли в «окопы» воду... Оля взяла небольшое стеклышко, чуть поцарапала палец, приложила к царапине ватку и сказала: — Это ранка. В другой же раз она вымазала лицо вишнями, легла рядом с «ранеными» куклами и потребовала, чтобы ей сделали перевязку. А когда кончилась игра, побежала к Вале: — Я рожицу замазала, а ты отмажь! Оля забралась на колени к Вале и начала одоле вать ее вопросами: — Почему улитки сами на себе свои домики носят? Как это солнышко держится в воздухе? .. Будет ли светло на улице, если ночью выпустить нашу кошку с зелеными глазами? Сидят рядышком, шепчутся, тараторят; умолкнут и опять жужжат, как жуки в майский день. Уморив Валю, Оля принималась за меня. Она вспомнила, как, еще живя дома, дула на одуванчики. И здесь их уйма росла в овражке. Мы забирались туда, и я сдувал «одудяги» один за другим прямо Оле в лицо. Она подставляла руки под пушинки и кричала: — Снег идет! Потом надулась, покраснела и сказала: — Я потушила лампу. Она потребовала, чтобы я снова дул и дул. А я устал. Олино лицо сразу омрачилось: — Дуй! — Не буду. — Еще! Дуй, дуй! — настойчиво повторяла Оля и ударила меня своей маленькой рукой по губам. Как я ни крепился, но не выдержал и схватил Олю за ухо. Только хотел я потянуть, как Оля завопила на весь овраг. Валя подбежала к ней. Оля всхлипывала, губы ее вздрагивали, а Валя смотрела на меня как на последнего человека. Девчонки пошли в одну сторону, я — в другую. Немного прошло после этого времени, а я все еще продолжал сердиться, но уже не на Олю, а на себя: «Сережу ругал, а сам сестре подбавил». На следующий день я первым делом узнал у тети Фени, как Оля провела ночь. — Спала-то сладко, а болтать — болтала. Я вошел в спальню. Оля в рубашонке стояла на койке. Она увидела меня и захлопала в ладоши. Я подошел ближе как ни в чем не бывало. Оля посмотрела на меня блестящими глазенками. — Я видела во сне маму. Она принесла мне гостинец, — сказала она и улыбнулась. — А ну, петушки, пора на нашест! — с этими словами няня Дуся загоняла нас в спальню. Мы знали, что ей не терпится произнести речь, как только все улягутся. Так няня Дуся отмечала все знаменательные события нашей жизни. Уж много лет, как я знаю няню Дусю, и кажется мне, что она все такая же, точно родилась бабушкой; время не гнет ее книзу, не серебрит волосы, не прибавляет морщин. Голос у няни Дуси очень резкий и даже хриповатый. Все она умела, только не могла научиться говорить шепотом, а если начинала шептать, у нее еще громче получалось. Поэтому она ничего не могла держать в секрете. Няня Дуся часто сама шутила над собой, может быть потому, что другим и в голову не приходило пошутить или посмеяться над нашей богатырской няней. Она всегда напоминала нам, что мы в детдоме стали «как бары», а «в жизни бывает всяко», и любила говорить, что «без труда не вытащишь рыбку из пруда». И вот няня Дуся выключила свет, оставив гореть только одну лампочку. Я завернулся одеялом с головой. Так хотелось, чтобы скорей пролетела ночь и наступило «завтра»! Чтобы ночью ходить как можно тише, няня Дуся снимала свои истоптанные, похожие на широкие плоскодонки шлепанцы, но все равно и под ее босыми ногами скрипели доски. Я проснулся после третьих петухов. Наступило первосентябрьское утро. В этот день я снова пошел в школу, во второй класс. А если бы не пришли немцы в Сталинград, учился бы теперь уже в третьем. А чувствовал себя первоклассником — так отвык от школы. Снаряжать в школу нас начали задолго. Откуда-то издалека прибыли пачки с новенькими учебниками. Взрослые несли в школу столы, табуретки. Я даже видел, как один гражданин торжественно нес впереди себя глобус. И все на него так смотрели, словно желали ему не оступиться. Все старались, чтобы мы выглядели как можно лучше. Многие из нас к этому дню получили новые ботинки. Девочкам сшили в Швейпроме новые платья. В школу нас провожал весь город, будто мы были знаменитыми воинами и отправлялись не на Косую улицу в двухэтажное здание школы, а на фронт. Только оркестра не было. Первого сентября мы чувствовали себя, как в день Первого мая, несмотря на то что в садах снимали яблоки и повсюду на солнце сушились гирлянды нарезанных яблок. Я шел в паре вместе с Валей Олейник. Она почти не прихрамывала и старалась идти в ногу. Так уж было заведено — идут детдомовцы, как дисциплинированные бойцы. Городской военный комиссар вместе с Капитоли-ной Ивановной проводили нас до самых дверей школы. Учитель вошел в класс. Очень молодой. Мы сразу обратили внимание на пустой правый рукав его пиджака. Так тихо было в классе, что я даже услыхал, как подо мной скрипнула старая парта. На первом уроке учитель говорил нам о том, как дерется на фронтах Красная Армия. ... Пока мы были в школе, в детдоме произошло событие, о котором мы прежде всего узнали от няни Дуси: — Непутевый вернулся! Я не верил своим ушам. Капитолина Ивановна утром вышла из своей комнаты и чуть не набила дверью шишки двум мальчишкам. Один из них был Сережа Бесфамильный. — Мне нет письма? — спросил он. — Сначала пойдите умойтесь, а разговаривать будем потом, — ответила Капитолина Ивановна. А «потом» Сережа отрапортовал, что вместе со своим спутником Славой он прибыл к началу занятий. Они хотели бы тотчас же отправиться в школу. Я увидел их в окне медпункта. -— Ну, что глаза выпучил? — по своему обыкновению, прокричал мне Сережа; даже в ушах зазвенело. — Залазь сюда! Камень свалился с моего сердца. Я бы, конечно, залез, но у окна показалась Светлана Викторовна.... Койку для Сережи поставили рядом с моей. В нашей спальне будет жить и Слава, которого Сережа встретил во время своих скитаний. Как оказалось, Слава бежал уже из нескольких детдомов, искал самый лучший. Сережа убедил его, что наш детдом самый лучший. Мне не терпелось узнать, где же был Сережа — на фронте или в Бугуруслане? Из его сбивчивых рассказов я понял, что до фронта он не доехал и в Бугуруслан не попал. Зато он побывал в Москве и во многих городах. Со Славой он встретился совсем недавно, когда их задержали на станции Грязи. По словам Сережи выходило, что для того, чтобы путешествовать, совсем не обязательно иметь железнодорожный билет, надо уметь разговаривать с проводниками, контролерами и быть в хороших отношениях с пассажирами. Пищу и всякие там продовольственные карточки тоже иметь не обязательно. В пути всегда накормят не какой-нибудь ячменной кашей, а консервами «Второй фронт»: свиной тушенкой и беконом. Как рассказывал Слава, и в вагонах и на станциях Сережа подходил к военным, пристально разглядывал их, просил помочь разыскать отца. Сам же Сережа с неохотой рассказывал о своем далеком путешествии. Вечером он подозвал меня, вытащил из-за пазухи что-то завернутое в тряпочку, развязал узелок и торжествующе спросил: — Видал? Передо мной был самый обыкновенный карманный фонарик. Но, признаться, тогда я ему очень обрадовался. Ты думаешь, это что? — спросил Сережа. Ну, фонарик. Он посмотрел на меня с презрением: — Сам ты фонарик! Это не фонарик, а прожектор. Слыхал? Если появится над нашим детдомом какой-нибудь «Мессершмитт», мы будем этим прожектором фашистов сбивать. Ты только посмотри, как он светит! И Сережа нажал кнопку. Нажал раз, другой, «прожектор» не загорелся. Тогда Сережа начал подкручивать лампочку, а потом вывернул ее и посмотрел на свет. — Все в порядке, сейчас засветит. Но и это не помогло. Тогда он вытащил батарейку, начал ощупывать ее руками; высунул язык и лизнул батарейку. Но, как ни старался, ничего у него не получилось. К великой досаде, Сереже не удалось показать мне «прожектор» в действии. Батарейка отслужила свой срок. Сережа так огорчился, что я уже подумал, не отправится ли он второй раз в Москву за новой батарейкой. Он удивил меня в первое же утро. Я проснулся, смотрю — Сережина кровать опять пуста, а его не видно. Оказывается, он переселился под койку и там, на полу, проспал всю ночь. А когда я не захотел последовать его примеру, он посмотрел на меня с сожалением и сказал: — Ты, Гена, жизни не знаешь! В воскресный день мы навестили старого бочара. Василий Кузьмич жил один в небольшом домике в два окошка на улицу. Одно окно наполовину было забито фанерой. Снаружи домик выглядел таким же седым, как и его хозяин. Зато распахнутые рыжие ставни на крючках были добротны и внушительны. Мы взошли на крыльцо и постучали, а дверь оказалась незапертой. В сенях стояли развалившаяся бочка и новая кадка; валялись деревянные и железные обручи, дощечки, прутья. Один из них Сережа сразу же облюбовал для лука. В горнице над неприбранной кроватью висели молотки, рубанок, пила и внушительный циркуль. Напро- тив, прислоненная к простенку, стояла доска с приклеенной картой. Василий Кузьмич отмечал на ней все города, освобожденные от фашистов. В углу лежала огромная тыква. Мы сделали несколько осторожных шагов, стараясь ничего не свалить, не зацепить. Все пахло здесь щепой, стружкой и табачком. — Здорово, дедушка! — закричал Сережа, вы сунувшись в окно, выходившее во двор. Василий Кузьмич копал картошку на огороде. Он вошел с лопатой в руке, тяжело дыша. Схватил Сережу за рукав и несколько раз повернул его. Достал с полки очки в железной оправе и, придерживая их рукой, внимательно оглядел Сережу. По-видимому, остался доволен своим осмотром, подставил нам табуретки, велел сесть. И сам сел. — Опять спаровались, дружки! Вас-то и не ждал. Думал, другие ребятки пожаловали. Как металлический лом собирать — прямо ко мне. Прошлый раз я им ржавую самоварную трубу приготовил, а они с собой и тупой топор прихватили. Сережа достал из кармана что-то завернутое в тряпочку. Только подумал я о фонарике, как он не спеша развернул тряпочку и протянул Василию Кузьмичу пачку махорки. Тот принял подарок, скрутил козью ножку, насыпал в нее щепотку, щелкнул зажигалкой и задымил. — Расскажи, где побывал. — В Москве, на бульварах, огромные колбасы лежат, аэростатами называются. — А еще что видел? Там дома все разрисованы. Я Москву пешком обошел, пять дней и пять ночей шел. На лестницах- чудесницах в метро ездил; одни спускаются, другие поднимаются. Я даже на лестнице знакомого встретил, которого в Сталинграде видел, только я вниз ехал, а он наверх. Там, в метро, не поймешь, когда ночь, когда день. Я на этих лестницах пять суток ездил, — рассказывал Сережа. — Милиционеры в метро все в юбках. Одна меня заметила и поманила конфеткой. А я и от нее убежал. — И затепло вернулся, — перебил Сережу Василий Кузьмич. Мы в тот день Василию Кузьмичу мешок картошки накопали и вместе с ним целый чугунок съели. Вскоре еще одно событие потрясло весь городок, а у нас, детдомовцев, стало много, много новых друзей. К нам с фронта прибыла гвардейская часть набраться сил перед новыми боями. В городке сразу стало тесно. И на улицах и во дворах стояли машины, выкрашенные в зеленый цвет, обтянутые брезентом, и широкие сильные грузовики. Таких я раньше не видел. Все мы разглядывали боевые награды гвардейцев, взбирались к ним на колени, чтобы потрогать ордена. Гвардейцы стали шефами детдома. Они привезли нам целую машину с куклами и кухонной игрушечной посудой. Оля завладела двумя куклами, похожими друг на друга, как две капли воды. Нам же, мальчишкам, гвардейцы подарили футбольные мячи и полный набор инструментов для духового оркестра. Барабан был один, а стать барабанщиком хотелось каждому. Когда гвардейцы пришли к нам в гости, мы читали им стихи, а Земфира сплясала матросский танец. Гвардии генерал также побывал в детдоме. В младшей группе его усадили на ковер. Он складывал дом из кубиков, в то время как малыши примеряли его генеральскую фуражку. Гвардейские машины часто появлялись на нашем дворе, привозили дрова и уголь. Мы всегда принимали участие в разгрузке этих машин, потому что нам всем хотелось скорей занять свое место в пустой машине. Мы могли подолгу отдыхать в ней, несмотря на то что она стояла на одном месте. Когда же шофер позволял надавить на сигнал — даже смешно вспомнить, — как это нам тогда нравилось! Шефы отремонтировали нам крышу и поставили на кухне новую плиту. На улице мы не пропускали ни одного военного, становились навытяжку и первыми козыряли гвардейцам. Валя заболела в хмурый, ненастный день. Хлестал дождь, завывал порывистый ветер. Я подумал о том, что ночью в такую погоду птицы разбиваются о телеграфные провода. Выздоровела же Валя, когда снова вернулись ясные, но уже короткие и прохладные дни. Иней посеребрил бурую траву, морозец подсушил дорогу, и Валя снова пошла в школу. Несколько дней походила и опять слегла, на этот раз надолго. Мы знали, что Валина болезнь называется ревматизмом и у нее болит сердце. Когда я приходил ее проведать, лежала она на высокой подушке. Должно быть, Валя где-нибудь простыла. Ведь я-то лучше других знал, сколько мы намерзлись. И дьяконица заставляла ее воду таскать из колодца. Валя очень интересовалась уроками и в кровати решала задачи и примеры. Светлана твердо обещала ей сразу же, как она поправится, путевку в уже освобожденный Кисловодск или Мацесту, где люди пьют целебные воды, лечатся волшебными грязями. Валя хотела скорей вылечиться. — После укола мне легче, — говорила она. Няня Ду
ся сердилась на Светлану, что девочку так часто колют. И я думал: «Неужели нельзя обойтись без каких-то уколов?» Няня Дуся решила лечить Валю по-своему. Она растирала ее самодельным лекарством — муравьиным соком — и приговаривала: — Ты, Валюша, не горюй, еще по деревьям будем с тобой лазить, орехи за пазуху собирать. Муравьи-то ведь не хуже докторов — разумная тварь, полезная. И действительно, после няниного лекарства Вале стало лучше, и она говорила: — На санках буду кататься... В первые дни после своего возвращения Сережа сторонился Вали, но, после того как она перестала ходить в школу, захотел навестить ее. Он пошел со мной, но очень смущался. А когда увидел Валю на подушке, заволновался и хотел уйти, но Валя спросила: — Ты не сердишься на меня? Сережа замотал головой. В комнату вошла Светлана Викторовна. Сережа сразу же стал говорить, что наши ученые скоро обязательно изобретут такое лекарство, чтобы сердце никогда не болело, а легкие не уставали дышать. — Но ведь для того, чтобы изобрести такое лекар ство, надо много знать, много учиться, — сказала Светлана Викторовна. — А мы будем много учиться и много знать, — ответил Сережа. — И такое лекарство дадим ей. — Сережа показал на Валю. Все мы тогда очень обрадовались будущему Сережиному лекарству. Каждый раз, когда я ходил к Вале, Сережа увязывался со мной. А потом стал ходить в изолятор и без меня. Он расспрашивал Светлану Викторовну о разных болезнях; любил поболтать и пофантазировать. Валя с удовольствием его слушала и смеялась. Когда мы были заняты в школе, к Вале приводили и Олю. Оля осторожно подходила к кровати, взбиралась на стул, поставленный у изголовья, и просила, чтобы Валя ей что-нибудь рассказывала. Валя быстро уставала. Вдруг смолкнет, опустит голову на высокую подушку и лежит не шевелясь. Однажды нас не пустили к Вале. Оля никак не могла примириться с этим: — Она мне только одну сказку расскажет, коротенькую. О том, что Вале плохо, мы видели по Светлане Викторовне. Она не шутила, как раньше, и не говорила, что все это «пустяки». Я думал: ведь спасли же нас от тяжелых снарядов блиндажи в десять накатов. Жили мы под огнем, так неужели сейчас, когда здесь так тихо, нельзя прикрыть Валю от смерти! Сережа узнал, что вместе с гвардейцами в нашем городе находятся и военные врачи; среди них славится один врач — гвардии майор. Артиллеристы говорили, что с таким врачом им воевать не страшно. Мы увидели, что Вале понесли большую подушку. Слава сказал — она наполнена воздухом. Значит, Вале воздуха не хватает. Мы говорили с Сережей вполголоса. Как всегда, улеглись спать. Молчали, но каждый думал свое. Сережа ткнул меня в бок: — Хватит лежать. Надо действовать. Пойдем разыщем врача военного и приведем его к Вале, пусть он спасет ее. Ведь я слыхал, он уже многих от смерти спас. Наша Светлана на фронте не была, а он был и опять туда вернется. Ведь Вале сейчас очень плохо. То же самое, но еще убедительней Сережа повторил няне Дусе. Я был уверен, что она прикрикнет и прикажет сейчас же угомониться. Но няня Дуся даже похвалила Сережу за догадку. Мы быстро оделись и на цыпочках вышли из спальни. Няня Дуся выпроводила нас, а на прощание приложила палец к губам. Нас обдал холод. Отойдя несколько шагов от детдома, мы побежали. Люди в городке еще не спали. Где-то говорило радио. Из щелей в ставнях просачивался свет. По всему было видно, что Сережа все обдумал заранее — оказывается, он уже знал, где живет гвардии майор. Мы поскребли ноги об скребок, чуть потоптались в дверях и постучали. Нам долго не открывали. Когда вошли в комнату, где жил гвардии майор, он играл на рояле. Он не рассердился на нас. Усадил на стулья и внимательно выслушал. Говорил Сережа, а я только поддакивал, разглядывая руки хирурга: толстые, широкие, покрытые золотистыми волосиками. Гвардии майор не знал, что ответить Сереже на его настойчивые просьбы. —- Ведь я же только хирург, мальчики. Ваш доктор делает все, что надо. Зачем же я буду вмешиваться? — Раз мы пришли за тобой, ты должен пойти с нами, — твердил Сережа. — Но ведь уже ночь, зачем будить девочку? — Ей очень плохо, — сказал Сережа. И хирург пошел с нами. Помню, как он постучался в дверь изолятора и назвал Светлану Викторовну незнакомым мне тогда словом — коллега. В приоткрытую дверь я увидел Валю. Хирург попрощался с нами и по-военному строго приказал идти спать. А сам остался в изоляторе. Няня Дуся встретила нас у самой двери. Она поцеловала меня в лоб, а Сережа увернулся. — Ну вот, они теперь подумают вдвоем, и Валя скоро поедет в Кисловодск и будет писать нам письма, а мы ей будем отвечать, — говорил мне Сережа. Он вовсе не собирался спать. Я, когда вырасту, обязательно стану врачом; только я буду врачом сразу по всем болезням. — Даже по уху и по горлу? — спросил его Слава. Он проснулся и прислушивался к нашему разговору. — И по уху и по горлу, — ответил Сережа. Ну вот, утром я тебя так стукну по уху, что ты закричишь во все горло, — рассердился Слава. — Не мешайте мне спать, врачи! ...Через несколько дней Валя умерла. Над детским домом был вывешен красный флаг с черной каймой. Сережа набросился на дверь, хотел сорвать ее с петель... — Ее зароют в снег? — спросила меня Оля. — Или положат в ямку? Ведь в ямке хорошо, там пули не достают, верно? Я с тревогой смотрел на Олю. На нее летели тысячи осколков — она осталась жива. Оказывается, существуют и совсем невидимые — они жалят через много лет, опасные, как мины замедленного действия. Валя лежала в белом платье. И учителя из школы и гвардейцы пришли проводить Валю. Все жители собрались и горевали вместе с нами. Валин открытый гроб мы несли на полотенцах. Няня Дуся шла и приговаривала: — Нет больше нашей голубки, пропала, как мотылек на огне! Загубили птичку веселенькую, не дали ей пожить на свете... Заиграл военный оркестр. Никогда не забыть, как все мы плакали, даже те, кто не знал Валю, когда опускали ее в землю... Гвардейцы поставили над могильным холмиком небольшой обелиск, сделанный из досок. Его выкрасили голубой краской. К обелиску прибили красноармейскую звезду, вырезанную из жести. Весной вокруг голубого обелиска мы посадили цветы. Гвардейцы исчезли так же неожиданно, как и появились. Они поднялись ночью. И, когда мы утром узнали, что наших друзей уже нет в городе, стало даже обидно: как же они с нами не попрощались. Вот что значит внезапность и военная тайна! Сережа наклонился ко мне и, как всегда, с таинст- венным видом произнес номер полевой почты гвардейцев. Это четырехзначное число невидимой нитью связывало теперь нас с фронтом, с полюбившимися людьми. У входа в городской сад на столбе висел репродуктор. Его металлический голос был далеко слышен. Но все старались ближе подойти к репродуктору. Здесь всегда толпились люди, особенно когда раздавался хорошо знакомый голос: «Товарищи, сейчас будет передано важное сообщение». Пешеходы останавливались. Люди многозначительно смотрели друг на друга. У репродуктора мы не раз слушали далекие залпы, стараясь не сбиться со счета. Даже дух захватывало — двадцать артиллерийских залпов из двухсот двадцати четырех орудий! Обязательно кто-нибудь приподнимался на носки и спрашивал: — Какой город взяли? Как хотелось раньше других громко ответить, называя то Харьков, то Смоленск, то Киев, то Одессу! .. Я мечтал, что вдруг раньше всех услышу по радио, что кончилась война. Услышу и в любой мороз выбегу на улицу раздетым. Буду стучать в окна, будить людей и что есть силы кричать о победе. И какой бы при этом ни был мороз, я никогда не замерзну. Настали холода. Позывные все чаще и чаще лились над городом, а война все продолжалась. Как-то вдруг Сережа ни с того ни с сего спросил меня и Ваню Петрова: — В каком ухе звенит? — В левом, — ответил я. — В правом! — крикнул Ваня. — Ну вот, молодец! Значит, скоро войне конец, — успокоил меня Сережа. — А тебе еще воевать, — сказал он Ване. Но тот не огорчился, схватил подушку, прижал ее ;К животу, а половую щетку взвалил себе на плечо как ружье и зашагал по комнате, лихо чеканя шаг. Помню, как во дворе детдома появился высокий военный. Он шел к конторе, с вещевым мешком за спиной, опираясь на палку. Я подбежал к нему и заглянул в его исхудавшее лицо. Он был такой усталый, обветренный. Сразу можно было понять: он с фронта, где потерял много крови. Капитолина Ивановна увидела его через окно и вышла навстречу. — Вы ко мне? — спросила она. А он облокотился на палку и негромко ответил: — Боюсь вас даже спрашивать. Он снял с головы серую ушанку и как-то виновато улыбнулся Капитолине Ивановне. — Как ваша фамилия? — Давыдов, — произнес он дрожащим голосом. — Здравствуйте, товарищ Давыдов. Ваш сын жив. Вы сейчас увидите его. — Какого? У меня три сына. — У нас Андрей. Давыдов покачнулся. Капитолина Ивановна протянула ему руку. Кто-то крикнул: — Воды! Но Давыдов сказал: — Не надо. — Рукавом шинели он вытер лицо и попросил Капитолину Ивановну: — Вы ничего не говорите ему. Узнает ли он меня? Вот в кого наш Андрей такой рослый и большеголовый. - Вы ко мне?-спросим Капитолина Ивановна. А в это время у нас в столовой шла репетиция духового оркестра. Когда открылась дверь и Давыдов вошел в столовую, сразу затихли трубы. Все понимали, что этот человек неспроста вошел сюда. И тогда в тишине прозвучал голос Капитолины Ивановны: — Андрей, ты узнаешь? А! — закричал Андрей и опустил валторну. Он сделал шаг в сторону отца. Андрей показался мне очень напуганным. Он остановился посреди столовой. Все «музыканты» повскакали со своих мест. Давыдов бросил палку и подскочил к сыну. Дрожащей ладонью он провел по Андрюшкиным взлохмаченным волосам. Он целовал его в губы, в щеки, в волосы, в лоб. Андрей ухватился за отцовский ремень. — Наши где? — прошептал Давыдов. — Петя в больнице лежал... Ну, мать и Нюша каждый день туда ходили. Пошли и не вернулись: больницу разбомбили. Нам об этом Андрей никогда не рассказывал. — Будем искать их, сынок, всю жизнь будем искать, — сказал Давыдов и замолчал. Мы усадили его на скамейку. Помогли снять вещевой мешок. Он развязал его, достал огромную плитку шоколада без всякой обертки, толщиной с полкирпича, и начал всех нас угощать. Я вспомнил инженера Панкова с «Красного Октября», который знал моего отца и тоже дал мне такой шоколад в день, когда я чуть не подорвался на минном поле. Отец Давыдова со всеми нами знакомился и почему-то всех нас за что-то благодарил. Я с огромным удовольствием крепко-крепко пожал его большую ладонь. Если бы знал он, что я его Андрюшке в первый же день нашей встречи тумака отвесил! Хотел Давыдов усадить сына к себе на колено, но Андрюша засмущался. — Ну брось, папа, я не маленький! — сказал он, моргая глазами. Он мало говорил с отцом и как-то нескладно ворочал длинными руками. Давыдов же не мог насмотреться на сына. И мне тогда показалось, что этот широкоплечий человек с продолговатым лицом и большими глазами такой же маленький, как и мы все, и не поймешь -заплачет ли он, как моя сестра Оля, или засмеется. «Музыканты» снова пригубили инструменты. В присутствии фронтового гостя они продолжали разучивать Гимн Советского Союза. В этот день и уроки не лезли в голову. Всем нам ни на шаг не хотелось отходить от Давыдова. Андрей застеснялся, а другие ребята лезли к его отцу на колени, осторожно трогали его ордена, гладили зеленые погоны. Засыпая, я все думал про Андрея: «Какой счастливчик!» И сам спросил себя: «Завидно?» Но тут же ответил: «У меня на фронте свой отец». Мой отец! На его голове металлическая каска с ремешком, который он затянул, уходя из дому. Он делает короткие перебежки, припадает к земле, а потом поднимается и пробивает себе дорогу гранатами. Длинная очередь немецкого пулемета. Отец падает. Нет, он сам стреляет в упор по врагам родины. Он невредим. Меня удивляло: какое счастье Андрею привалило, а он только бурчит и сопит да руки о куртку вытирает! И за ужином, как всегда, долго жевал. Ведь это именно он, как никто из нас, часто получал замечания за неряшливый вид. То измажется в масляной краске, то на свои же шнурки наступит. Утром отец Давыдова проводил нас в школу. После ранения он еще не мог быстро ходить. Он старался от нас не отставать, а мы шли медленней, чем обычно. В школе он познакомился с учителями, всех их благодарил и долго не выпускал из своей руки единственную руку нашего учителя Захара Трофимовича. Все в городе знали, что к долговязому детдомовцу, который «лучше всех в городки играет», приехал отец; была у него большая семья, а встретил только одного. Отпуск он получил в госпитале, где лежал после ранения, долечится и скоро опять на фронт вернется. Я до сих пор помню один из его рассказов. Получили фронтовики посылку, а к ней была прикреплена записка: «Вручить лучшему бойцу». Вручили лучшему ? стрелку, открыл он посылку, а в ней еще одна записка лежала, таким же почерком написанная: «Дорогой боец! Хотя я тебя и не знаю, но я с любовью посылаю тебе этот гостинец. Ешь на здоровье». Подпись и обратный адрес. Прочитал стрелок эту записку, а потом взял карандаш и написал ответ, который послал по обратному адресу: «Дорогая Наталья! Хотя ты меня и не знаешь, зато я тебя хорошо знаю, и гостинец я твой съел с удовольствием. Как поживает наш сынок? Твой муж Григорий». «Вот это да! Бывает же!» — думал я. Больше недели гостил в детдоме Давыдов. Не узнать было нашего Андрея. Ведь подумать только: к обеду не опаздывал, даже на шнурки не наступал — они у него перестали развязываться. Мы гордились, что у нашего товарища отец фронтовик. Мы гордились всеми фронтовиками. А когда Давыдов уезжал из городка, старшие девочки испекли ему пирожков на дорогу, мы все провожали его; каждый старался попрощаться с ним за руку, и все просили чаще писать нам с фронта. Еще неделю тому назад он поразил меня своей бледностью, а уезжал от нас, словно загорел на солнышке. Папа, а тебя не убьют?— спросил вдруг Андрей, когда отец усаживался в кабинке грузовой машины. Семь пуль вбили, а ни одной не убили. А теперь руки коротки, — ответил Давыдов. Еще что-то хотел сказать наш Андрей, но губы у него задрожали. А я-то считал его бесчувственным истуканом! Андрей что-то зашептал отцу. По всему было видно: он боялся расплакаться. Должно быть, тепер
ь он хоть секунду, а посидел бы на отцовских коленях... Но сам Давыдов торопил шофера. Мы махали платками. А Андрюша застыл на месте. Няня Дуся, вопреки своему обыкновению громко разговаривать, сказала совсем тихо: — Чует сын кровь отцовскую! Через два месяца в детдом пришло письмо со штам-пиком «красноармейское». Давыдов писал сыну, всему персоналу детдома и нам, его товарищам. Мы поместили это письмо в школьной стенной газете. Я заметил, что Андрей во время каждой переменки подходил к газете. — И ваши папы найдутся, — сказал он, поймав мой взгляд. И в самом деле, ведь, может быть, и нас уже разыскивают; может быть, и нам придет счастье в конверте. С каким благоговением смотрели мы на начальника городской почты! Он ходил в форменной фуражке и в синей шинели с нашивками на рукаве. Нам казалось, что ему подчиняются не только письмоносцы, но все квадратные и треугольные конверты с добрыми и тяжелыми вестями. И вот однажды, когда я пришел из школы, няня Дуся посмотрела на меня как-то по-особенному: — Ну, карандаш, а я для тебя что-то припасла! — И тут же тихонько протянула мне конвертик. Я загорелся. Кто же это обо мне вспомнил? Так и написано — крупно и разборчиво: «Гене Соколову». Только я взял письмо в руки, как няня Дуся опять сказала: — А у меня для тебя еще что-то есть. Она достала еще один конверт, на котором той же рукой было выведено: «Гене Соколову». Смотрю — вслед за ним и третий конверт в няниных руках. Тут я не стал больше ждать, разорвал конверт и начал читать первое письмо. Все эти письма были от одного человека: писались они в разное время, а пришли вместе. Хотя в каждом письме было написано почти то же самое, я их перечитывал без конца; хранил под подушкой, брал с собой в школу! Еще бы! Сразу на мое имя пришло пять писем! И все от Шуры! Она долго разыскивала меня, писала подругам, посылала запросы. В ответ я написал Шуре все, что мне тогда пришло на ум, а главное, сообщил, что наконец встретился с Олей. И тут же, на листке бумаги, для большей убедительности я обвел Олину руку цветными карандашами — каждый пальчик другим цветом. Я отослал ответ и с той же минуты стал с нетерпением ждать Ольгу-почтальона. Только и думал: «Сегодня не было письма — будет завтра». Много прошло дней, пока я получил ответ от Шуры. На этот раз это был большой, красивый треугольник. Шура передавала поклон всему детскому дому. Олю она просила поцеловать пять раз — по поцелую за каждый годик. Я сразу же написал ей ответ. Только запечатал конверт и произнес про себя: «Лети, мое письмецо, прямо Шуре в лицо, да смотри не оглянись, никому не попадись», как ко мне подбежал Сережа, очень обеспокоенный: — Распечатывай конверт! — потребовал он.— Напиши ей, чтобы прислала нам батарейки для карманного фонаря. Я обещал Сереже написать об этом Шуре в следующем письме. Мы жили приказами и сводками. Репродуктор доносил до нас далекий шум битвы. Как ликовали все мы, когда узнали, что советские пули уже перелетают границу Германии! Теперь воспитательницы все чаще расспрашивали нас о том, что мы помним, где и с кем жили до войны. С каждым днем на адрес детдома стало приходить все больше и больше писем из освобожденных городов. И в каждом письме — голоса разлученных войной. Из города Бережаны запрашивали об Анатолии Пономарчуке. У нас жил Анатолий Пономарчук, но он, как оказалось, никогда даже не слыхал о Бережанах и хорошо помнил, что жил на станции Касторная. Только теперь понимаю я, как были терпеливы и настойчивы неутомимая наша Капитолина Ивановна и ее помощники. Сколько пришлось выслушать им бессвязных речей и сбивчивых ответов! Что могли рассказать о себе малыши, эвакуированные из яслей? Многие из нас фантазировали и путали. Один мальчуган все просил написать отцу на фронт. «Его там сразу найдут, у него ремешок с дырочкой». Земфира не помнила, где жила до войны, она потеряла мать, когда бомбили дорогу, и какая-то чужая женщина надела ей на шею крестик, выбитый из серебряной монетки. Больше всех путал Слава. У него были какие-то неприятности в каком-то детдоме, там его называли «конченым». Одна тетенька дала ему денег на дорогу и сладости, уговорив, чтобы он не возвращался. А однажды вдруг Слава признался, что его сильно лупила мать, а он разбил глиняный горшок с молоком и, боясь наказания, удрал из дому, на станции сел в первый поезд и уехал куда глаза глядят. Сережу Бесфамильного никто ни о чем не спрашивал. Кроме него, у нас была и Нина Неизвестная. Она тоже ничего не помнила. Увидев на улице девочку с куклой, подбежала к ней и закричала на всю улицу: — Я не Неизвестная! Я не Неизвестная! Барышникова моя фамилия, Барышникова! У меня тоже такая кукла была, мне ее папа купил! Через несколько дней пошли в загс, переменили ей фамилию Неизвестная на Барышникова. И вспомнила Нина, что ее отца звали Александром. Стала она Ниной Александровной. Вот и я думал, что бы нам такое Сереже показать, чтобы и он сразу все вспомнил... Мы мечтали, что нас найдут, разыщут. Только бы кончилась война! И вот настал день, которого мы все так ждали. «Широка страна моя родная», — пропели без слов звонкие позывные, и опять зазвучал такой знакомый, торжественный голос. Мы знали, что наши в Берлине! Все так и ждали самого «важного сообщения», но когда накануне легли спать, еще шла война, а проснулись — настало мирное время. Войне конец! Мы сбивали друг друга с ног, носились из корпуса в корпус, обнимались. Хотелось обежать весь город. Няня Дуся в этот день вдела в уши большие позолоченные серьги. Кружилась голова от запаха цветущих яблонь и груш, от радости возбужденных голосов и криков «ура». Над детдомом вывесили красный флаг. Мы кувыркались на молодой, пушистой траве. А потом собрались все вместе во дворе у ступенек конторы. Капитолина Ивановна как-то необыкновенно произнесла: — Товарищи дети! Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой! Капитолина Ивановна прочитала последние слова приказа о великой победе: — «Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа». Так сдавило в горле. Стояла мертвая тишина. Должно быть, все мы думали о тех, кто не дожил до этого дня. Вернется или не вернется с войны папа? В тот же день, не успели мы выпить вечерний чаи, как услыхали совсем рядом боевые звуки марша. Некоторые даже растерялись. Откуда появился вдруг в городе военный оркестр? Не все сразу сообразили, что это наши собственные музыканты. Настоящий оркестр, будто у нас не детский дом, а гвардейский полк! На звуки марша со всего городка стекались гости. Пришел к нам и старый бочар Василий Кузьмич. — Потянуло на музыку к солдатским детушкам. Мы окружили его и начали плясать кто как мог. Когда стемнело, и в нашем городке начался салют. Правда, залпы были не из тысячи пушек; у нас раздавались одиночные выстрелы. Это палили в воздух охотники и милиционеры. Мы с Сережей тоже решили устроить свой «салют». Шура прислала мне карманный фонарик и несколько батареек. Мы бегали с Сережей по двору и освещали лица людей и верхушки деревьев. Вот наши лучи скрестились и вырвали из темноты лицо Андрея. По случаю Дня Победы он шагал по двору на небывало высоких ходулях. В тот вечер в садах и прибрежных кустах Невелички пели соловьи. С темного неба на нас смотрели тысячи звезд. Не было конца нашей радости, нашим надеждам. Один за другим в наш городок возвращались демобилизованные воины. Были среди них и девушки в пилотках; на их гимнастерках сияли ордена и блестели нашивки. Мы тогда научились особой грамоте: по медалям и лентам узнавали и дорогих нам сталинградцев, и тех, кто оборонял Москву и Ленинград, и тех, кто штурмовал Берлин и освобождал Прагу. Однажды во дворе детдома я обратил внимание на высокую девушку. Сразу было видно, что она приезжая. Смуглое лицо, темные, чуть прищуренные глаза, и одета она как-то необычно: большие ботинки на толстой подошве; яркая, вся в цветах, широкая юбка, короткая курточка. За ее плечами болталась сумка на рыжих ремнях. Я посмотрел на нее, она — на меня. Мы узнали друг друга. В первую минуту я не мог произнести ни слова. Это была Галя Олейник, Валина сестра. Она крепко стиснула мою руку. Галя, оказывается, уже все знала и приехала в детдом вместе с Капитолиной Ивановной, которую по делам вызывали в Сталинград, в облоно. В день приезда Гали мы пошли на кладбище. Галя тихо стояла у голубого обелиска. Все молчали. Неожиданно раздался голос няни Дуси. Я даже вздрогнул. — Слышишь, девонька, сестра пришла! Поворотом головы и взглядом Галя остановила няню. В ее глазах я не увидел и слезинки. Она смотрела вдаль горящим взглядом, густобровая, сдержанная, сильная... В своей странной одежде она казалась мне неутомимым ходоком, кругосветной путешественницей. Но вот кончился ее долгий путь. Она стояла рядом со мной, плотно сжав губы. Вдруг она сделала шаг и опустила голову на грудь няни Дуси. Няня растерялась. Она гладила Галю по. черным волосам. Мы пошли к выходу. Капитолина Ивановна предложила Галине Олейник работать у нас в детдоме. Галя согласилась. Как изменилась Галя, когда сняла с себя все чужое! Теперь она стала такой понятной и знакомой! Мне очень хотелось узнать, что случилось с ней после того, как мы расстались. Но Галя не сразу об этом рассказала. Нашей группе не везло с воспитательницами, они часто менялись. Одна, как узнала, что освобожден ее родной город, быстро собралась в путь; другая совсем недолго у нас побыла — вышла замуж за гвардии лейтенанта и уехала вслед за ним на фронт. Теперь Галя стала воспитательницей нашей группы. Я почувствовал себя так, точно и меня, неизвестно за какие заслуги, «повысили в чине». Может быть, именно потому, чтобы я не возгордился, Галя была ко мне особенно требовательной и всегда давала мне множество поручений. Вначале мне было трудно привыкнуть называть ее Галиной Ивановной. А когда мы оставались вдвоем, я, как и прежде, называл ее Галей. Как-то в воскресный вечер мы с Галей, Сережей и Олей были в гостях у Светланы Викторовны. Пили чай из самовара, с вареньем из терна и вспоминали, как летом собирали терн в лесу и колючки кололи нам руки. Мы пили горячий чай, а на улице февральский ветер заметал снежную пыль. По радио передавали, что Сталинград готовится отметить третью годовщину со дня разгрома фашистских войск. Мы ели пирог и слушали музыку. А когда кончилась передача, Галя начала рассказывать о том, как привезли ее на окраину Берлина в бараки, обнесенные четырьмя рядами колючей проволоки. Там долго осматривали ее богатые немцы, заставляли открывать рот, изгибаться, поворачиваться кругом. Ее купила маленькая толстая немка, жена генерала. Хозяйка жила в особняке. Она поместила Галю в длинной, узкой комнате за кухней. В первый же день Галя вымыла гору грязной посуды, перетрясла все ковры и убрала семь комнат. Генеральша на хлеборезке отрезала тоненький кусочек хлеба и кинула ей, пододвинула миску с какой-то коричневой жидкостью... Хозяйке не нравилось, как Галя стелила скатерть, как раскладывала ложки. А дети ее были капризны и, чуть что, подставляли свои кулаки прямо Гале в лицо. Особенно донимал Галю хозяйский сын. Он ходил в черной форме с блестящими аксельбантами, перекинутыми через плечо. Он состоял в организации маленьких фашистов «Гитлер-югенд». Этот «гитлер-югенд» часто кидал в Галю свои ботинки, смеялся и противно фыркал: «Фи, фи». Иногда он вдруг начинал кричать: «Ура! Ура! Галя, Галя, твой рус-солдат валит в штаны!» У нас горели глаза. Эх, схватить бы нам его за эти аксельбанты! Галя рассказала, как ее хозяйке принесли извещение о том, что на Восточном фронте погиб ее брат. Хозяйка прибежала на кухню, схватила с плиты кастрюлю и плеснула кипятком Гале в лицо... Муж хозяйки, генерал, воевал на Восточном фронте. Галя каждый день убирала его кабинет. На одной стене в позолоченной раме висел портрет длинноухого и надменного владельца кабинета; напротив же, тоже в раме, висел портрет его любимой собаки. Галя рассказала о том, как в 1943 году начались сильные бомбардировки Берлина. Самолеты летели низко над крышами; грохот моторов и взрывов потрясал даже стены глубоких подвалов. После налета советских самолетов Галя вышла из бомбоубежища. Она обрадовалась, увидев берлинские дома, объятые пламенем. Все чаще и чаще она слышала, как генеральша и ее гости стали произносить слово «Сталинград». Вскоре в Берлине был объявлен шестидневный траур. Немцы ходили злые и мрачные, с черными повязками на рукавах пальто. А Галя радовалась: выстоял и победил Сталинград! Генеральшу часто навещали военные. «Откуда ты?» — спрашивали они Галю. А она им гордо отвечала: «Из Сталинграда!» — Если бы вы видели, как перекашивались их морды! — сказала Галя.— Живьем проглотить хотели. Тут Оля не выдержала, соскочила со стула и, подпрыгнув, бросилась обнимать Галю. Она забралась к ней на колени, обвила ее шею руками и, не отпуская от себя, повторяла: — Еще, еще рассказывай! Война кончилась, а у нас в детдоме стало беспокойней. Каждый ждал каких-то перемен в своей судьбе. Все чаще приезжали отцы и матери. На наших глазах происходили незабываемые встречи. А некоторые уезжали ни с чем; в списках облоно была большая путаница, в них значились и те, кто всего несколько дней прожил в нашем детдоме, а потом был отправлен дальше. В бумагах терялись следы, зато в жизни возникали неожиданные встречи, совпадения и догадки. Приедет кто, а сердце не на месте: а может быть, это приехали за мной, а может быть, это мне привалило такое счастье? Как-то у нас в городке на несколько дней остановились цыгане. Начали цыганки ходить из дома в дом, предлагали погадать. Им рассказали, что в детдоме тоже маленькая цыганка живет. И мы говорили Земфире: — Вот и за тобой приехали! Она очень испугалась, раньше была такая веселенькая, а теперь притихла; боялась нос высунуть. А откуда вы знаете, что я цыганка? Это кто-то меня ударил палочкой, вот я и почернела. Если бы ты была не цыганка, ты бы так плясать и петь не умела, — говорили мы ей. Однажды цыгане толпой подошли к детдому. Как узнала об этом Земфира, схватила тетю Фешо за юбку и спряталась. Мы выбежали во двор на цыган посмотреть. Хотели они в корпус зайти, но сторож их не пустил. Больше всех шумела старая цыганка: Отдайте нам нашу девочку! Будет у нас жить, будут ей завидовать, монистами звенеть будет. Цыган цыгана никогда не обидит. — Она вовсе не ваша, а наша, — возра
зил кто-то старой цыганке. А она не унималась: Нехорошо птичку в неволе держать. У нас не неволя, а специальный детский дом, — спокойно объяснил сторож. У вас гнездышко, дорогой человек, умная головушка, но пора птенчику из гнездышка выпорхнуть; отвыкнет девочка от цыганской жизни. Послушай старую цыганку, будет тебе закуска, будет и выпивка. Но сторож был неумолим. И мы решили в случае чего защитить Земфиру. Только после того, как Капитолина Ивановна вмешалась в этот разговор, цыгане нас оставили, а вскоре покинули городок. Курчавая, смуглая наша Земфира опять стала непоседой и даже хвасталась: — Если бы они схватили меня за руку, я бы все равно вывернулась и убежала. Не удалось цыганам увезти Земфиру. Она уже не держалась за юбку тети Фени, которая называла своих девочек то «трещотками», то «притворами», не позволяла разбрасывать вещи, заставляла платья вешать на вешалки и говорила при этом: — Смотри, девка, неряхой вырастешь! Приехали к нам из Сталинграда муж и жена. Мы сразу поняли, что приехали они неспроста, а хотят кого-то из нас взять «в дети». Каждый приезд «названых родителей» всех очень тревожил. На кого падет их выбор? На звонкий голос Земфиры многие обращали внимание. Муж и жена переглянулись. Мы поняли их безмолвный разговор. Земфира покорила их с первого взгляда. Они принесли ей конфет, игрушек и нас всех угощали. Земфире понравилось, что ее новые родители служат на железной дороге, могут бесплатно по всему Советскому Союзу разъезжать и ее с собой возьмут и всюду она побывает — и в Москве и во Владивостоке... Всем детдомом провожали мы Земфиру. А когда прощались, она вдруг расплакалась и долго обнимала тетю Феню! Увезли от нас Земфиру. Хоть и не с цыганами, а выпорхнул «птенчик из гнезда». Как-то прибежала ко мне в корпус Оля. Я рисовал в комнате для групповых занятий. Оля всегда любила разглядывать мои рисунки, а сейчас не обратила на них никакого внимания, только дернула меня за рукав: — Ой, боюсь, какая-то тетенька к нам приехала и на меня так смотрит... Мне пришлось долго ее успокаивать: — Вдвоем нас никто не возьмет, а Капитолина Ивановна никогда нас не разлучит. Мы теперь всю жизнь будем вместе. Я нарисовал ей дом в саду. Трудно мне было с Олей. Бывало, возишься с ней, мальчишки на меня косятся, да и взрослые говорили, что при мне Оля капризничает. А как-то я несколько дней не был в корпусе у девочек. Капитолина Ивановна меня встретила и сказала: — Не стесняйся быть ласковым с Олей. Теперь, вспоминая об этом, мне хочется сказать, что не только я любил Олю, но и другие наши мальчишки любили девочек. Ведь все они были нам сестренки! Но в этом ни один другому тогда не признался бы. После того как в августе 1945 года позывные возвестили о победе наших войск над фашистской Японией, мы стали ждать наших отцов и с другой стороны. Мы были уверены, что именно на Дальнем Востоке задержались наши отцы: надо только вооружиться терпением и по-прежнему ждать. Много прошло времени, пока мы наконец увидели и у нас в городке медаль «За победу над Японией». К нашему школьному товарищу Рафе Козодону вернулся отец. Мы с Сережей подошли к нему, когда он стоял у дома. Сережа внимательно разглядывал розовые, синие, зеленые полосочки на груди Рафгшого отца. А когда мы вернулись в свою спальню, Сережа плюхнулся на койку, уткнувшись лицом в подушку. Он лежал так несколько минут, а потом вскочил и схватил меня за руку: — Почему это за нами не едут отцы? Ведь был же и у меня какой-нибудь папа, и мама, должно быть, была. Хоть бы кто-нибудь из них приехал! Что я мог ответить Сереже? Сережа выбежал из спальни. Во дворе он нашел пустую бутылку, поставил ее на бочку и метким ударом камня разбил. У нас в детдоме все мальчишки любили швырять камни. Один только Слава не кидал камней. Он был среди нас самым аккуратным и вежливым; его рубашки словно не пачкались и не мялись, на его ботинки боялась садиться пыль. Он хорошо учился и двоечников называл «тюфяками». Говорил он медленно, не спеша; любил, чтобы его слушали. Он постоянно подчеркивал, что видел всякие виды в жизни, и смотрел на всех нас несколько свысока. Особенно часто Слава навещал палатку, в которой неразговорчивый дяденька в темных очках принимал пузырьки, бутылки, тазы без дна, исписанные тетрадки и даже лошадиные хвосты. Слава любил ходить по рынку. Однажды он взял с собой Сережу и угостил его сладким донским каймаком. И вот, когда мы играли в доме Степана Разина, Слава сказал нам насмешливо: — Эх вы, голытьба! Себя он, по-видимому, счел атаманом. — Некоторые из вас нюни распускают, чего-то ждут, на почту надеются. Все это пустяки и ерунда. Никогда раньше Слава так не говорил. — Никто нас не ищет. Да и вообще, кому это может прийти в голову искать нас в такой дыре. Мы сами должны искать, а для этого прежде всего нам нужны деньги. — Правильно! — подхватили мы. Мы должны дать объявление во всех газетах, объявить по радио, что Гена Соколов ищет отца, Ива на Соколова... Слава посмотрел мне в глаза. У меня сильно забилось сердце. Как это раньше мы до этого не додумались! — А твой портрет мы должны повесить в окнах многих фотографий и в Москве, и в Ростове, и в Ста линграде. Не может быть, чтобы среди тысячи прохо жих не нашелся хотя бы один человек, который знал тебя раньше, — сказал Слава, не спуская глаз с Сережи. А тот едва стоял. Ему не терпелось как можно скорей сфотографироваться. Через несколько дней на кладбище мы сняли железную ограду, окружавшую заброшенную могилу, и сдали ее утильщику. Ваня Петров под руководством Славы в районе городской мельницы срезал хвост у лошади. Один из нас уже знал, что ему не надо искать отца. Это был Андрей Давыдов. Детский дом еще осенью 1945 года получил письмо из части, где воевал его отец. Командование сообщало, что отец Андрея погиб смертью храбрых во время штурма Берлина. А еще через несколько месяцев Капитолина Ивановна собрала нас всех в зале. Мы почтили память отца Андрея. Командование прислало сыну орден отца —орден Отечественной войны 1-й степени. Этот орден лежал в несгораемом шкафу в кабинете нашего директора. Андрей перестал ходить на ходулях, и теперь уже никто не подтрунивал над ним. ...Новый, 1947 год мы встретили костюмированным балом. Под звуки детского духового оркестра плясали друг с другом рогатые чудовища и бабочки с марлевыми крылышками. Андрюша играл в оркестре. Ваня Петров бил в барабан. Только Слава со скучающим видом, прислонившись к стене, стоял в стороне. Вот к нему подскочил заяц и поднял лапки. — Эх ты, косой! — произнес Слава и отвернулся от зайца. Мне даже показалось, что больше всего он смотрит не на танцующих, а на электрические лампочки, которые в этот вечер светили особенно ярко. Бывало, на некоторых улицах темно, а у нас — всегда яркий свет. Когда после бала я лег спать, Слава и Сережа еще не пришли. А потом я увидел, как тихо, на цыпочках, боясь потревожить спящих, они вошли в спальню. Сережа держал в руках несколько лампочек. Он заметил, что я не сплю, подошел ко мне и шепотом поведал очередную тайну. Эти лампочки они вывернули, когда кончился маскарад, а вместо них ввернули другие, перегоревшие. Вывернутые лампочки Слава передаст одному дяденьке на рынке. Этот дяденька хорошо за них заплатит. Скоро мы наберем денег и объявим о себе во всех газетах и по радио. Я, конечно, понимал, что не так уж хорошо вывертывать лампочки в своем доме и нести их на рынок какому-то дяденьке. Но, признаюсь, я думал — раз за это взялся Слава, наши объявления о розыске родных появятся и в районной газете и в «Сталинградской правде». А может быть, даже по радио передадут на весь Советский Союз... Только начали тяжелеть веки, как сквозь сон увидел я няню Дусю с кочергой в руке. Она подошла к Славиной кровати. — Ах ты, дрянь, улегся, как ангел! — произнесла она «шепотом» на всю спальню. — С Новым годом, бабуня! — ответил ей Слава. — Говори, куда лампочки дел? — строго спросила няня. — А ты залезь на пожарную каланчу и посмотри. Прошу не мешать спать детям! — отрезал Слава. Няня Дуся подняла кочергу: — Выкладывай лампочки. — Попробуй вдарь только! Няня Дуся ухватила рукой Славино одеяло. Слава поднялся и не спеша извлек лампочки. Няня Дуся завернула их в фартук, собралась уходить, но вдруг передумала и сказала: — Знаю я, чем ты дышишь. Так только жулики п проходимцы поступают. — Хватит, хватит панихиду читать!-—попытался прервать ее Слава. Но няню Дусю уже трудно было остановить. — Кочергой этой подучить тебя уму-разуму. А заявление в детсовет я напишу, хоть и царапаю пером, как курица лапой, — сказала няня Дуся. — Надо жить честь по чести! И с этими словами она вышла из спальни. Учились у нас в школе две сестры: одна — со мной, другая — на класс старше. Переменки они всегда проводили вместе. Обе они были высокие, худые и носили очки в позолоченной оправе. Их называли цаплями. Жили они в собственном домике, окруженном палисадником. Зимой в их доме не замерзали окна, так как между ставнями стояли граненые стаканы, в которых была налита жидкость желтоватого цвета. Мать этих девочек часто приходила к нам в школу: то завтрак дочкам принесет, то калоши. Многие в городе называли ее с особым почтением— Евгенией Петровной. Она была портнихой. «Мадам портниха», как узнал Слава, была недовольна, что детдомовцы стали ходить в ту же школу, где учились ее дочери. Она хлопотала, чтобы для нас устроили специальные классы, даже подписи родителей хотела собрать, но ничего у нее не вышло; пристыдили ее за это, вот она и злится. Нашего учителя Захара Трофимовича срочно вызвали в Москву — получать новый протез правой руки. Его заменяли другие учителя, и Галина Ивановна тоже приходила заниматься с нами. Прозвенел звонок, а мы одни в классе. Было шумно. Вдруг приоткрылась дверь, и мы увидели Евгению Петровну. Пока она раздумывала, входить ей или не входить, мы дружно встали. Она вошла, окинула нас всех взглядом и сказала: — Садитесь. В это время прямо к ней навстречу выехал верхом на палке Ваня Петров. Недаром Светлана Викторовна называла его «невозможным». Действительно, невозможно было не рассмеяться, когда Ваня начинал смешить. Его выставляли за дверь, а он и там смеялся. Часто Ваня смеялся без всякой причины, просто потому, что он хорошо выспался, вкусно поел или увидел нахохлившегося воробышка на телеграфном проводе. Он так и ждал, что в ответ Евгения Петровна, так же как и другие взрослые, улыбнется и дружный смех всего класса вознаградит его за выдумку. Но портниха вовсе не собиралась смеяться. Она никак не могла подыскать подходящие слова, чтобы выразить свое негодование. Никогда еще Ваня не терпел такого полного поражения. Он растерянно смотрел на Евгению Петровну. Евгения Петровна несколько раз прошлась по классу. — Вот как вы себя ведете! — процедила она и зло посмотрела на Ваню. Как раз в эту минуту открылась дверь, и в класс вошла Галина Ивановна. Евгения Петровна, не дав ей опомниться, сказала: — Вот полюбуйтесь, как ведут себя ваши дикари! Я проходила мимо, хотела навести порядок, а этот чуть не сбил меня с ног. — Этот? — удивилась Галина Ивановна. — Какой же он дикарь? Правда, он у нас только недавно стал свободно рукой владеть. — Конечно, вы их защищаете. Странные порядки в вашем пансионе! Как вы за ними смотрите? Таким место не в школе, а в исправительной колонии. Недаром они все тащут! Это вы уж слишком! — возмутилась Галина Ивановна. Про лампочки весь город знает! — подчеркнуто сказала Евгения Петровна, подошла к парте, где си дела ее дочь Серафима, и потянула ее за собой. Галина Ивановна задумалась, а потом посмотрела Славе прямо в лицо. ...На следующий день, перед началом урока, Серафима громко спросила: — А правда, что ваша воспитательница в плену была? — Была в неволе, — ответил Сережа и насторо жился. — Сразу видно, какая фрейлейн! — сказала Серафима. Мне показалось это очень обидным. Серафима же продолжала: — А может быть, и ваши отцы тоже в плен сдались? Сергей стоял как вкопанный. — Почему ты думаешь, что мой отец к немцам ушел? — спросил он, тяжело дыша. — Я не знаю, спроси мою маму. Сережа отошел. А Серафима бросила ему вдогонку: — Подумаешь, сын без отца! Не знаю, слышал ли это Сергей. Во время тихого часа он лежал с широко открытыми глазами и о чем-то думал. Вдруг вскочил и сказал: — Пойдем со мной! Мы быстро оделись и побежали. Уже темнело. В этот час еще не всем улицам электростанция давала ток. То там, то здесь появлялись огоньки. Вот и домик в палисаднике. За домом, на небольшом участке земли, — яблони. Через окно видна была зажженная висячая керосиновая лампа. Сережа хотел постучать. Но как-то само собой получилось, только схватился он за ручку, как дверь открылась. Мы оказались в большой комнате. Натоплено крепко. Половики разостланы по крашеному полу. На стенах картины в рамах висят. Вот бы посмотреть! В комнате кто-то крикнул. Мы оторопели от неожиданности. Высокая морщинистая старуха поднялась нам навстречу. В это время полуоткрылась другая дверь, и мы увидели высунувшееся испуганное, вытянутое лицо Евгении Петровны. — Это детдомовцы! Фу ты, а я так испугалась! Гони их, мама, проверь кладовую! — раздался ее пронзительный голос. — Детдомовцы! — брезгливо повторила старуха.— В дом лезете, мало даровых яблок натрясли, покоя нет от вас... И тогда тихо, но внятно Сережа спросил, прямо смотря старухе в глаза: — Серафима сказала, что ее мама знает моего отца. Откуда она знает, что он в плену? — Вон! Вон отсюда! — зашипела бабка. — Чтобы ноги не было в нашем доме! Она толкнула нас к двери так, что мы чуть лбами не стукнулись. И оказались за дверью. До нас доносились какие-то крики, кто-то задвигал стульями, зашаркал шлепанцами, залаяла собачонка. Так хотелось всем им дать сдачи! Зачем только мы пришли сюда! Мы молча побрели к дому. Было очень обидно. Врет старуха, никогда мы не лезли к ним в сад. Через полчаса после нашего возвращения Галина Ивановна обнаружила — Сережа исчез. За ужином его место было пусто. И оставленная каша давно остыла. Такой переполох поднялся в доме! Даже фонари «летучая мышь» приготовили, чтобы искать Сергея. Он мог уйти только пешком, так как все городские машины были на месте в своих гаражах. Слава первым обнаружил пропавшего. Оказывается, по приставной лестнице он залез на чердак нашей новой бани. Галя поднялась на чердак и сн
яла Сергея. Она говорила ему: — Сережа, какой ты чумазый, пойди умойся! Сережа сказал, что не хочет больше ходить в школу. Почему? — Просто так, — ответил он, а у самого голос за дрожал. — Откуда эта пиявка, свинья рогатая знает, что мой папа в плену? — спросил Сергей Галину Ива новну. Галина Ивановна, несмотря на поздний час, собрала нас вокруг себя. Она говорила о том, что на белом свете, кроме хороших, отзывчивых людей, есть еще и равнодушные, черствые. Они, эти люди, как манекены, как истуканы. — Манекены? — переспросил Андрюша Давыдов. А я вспомнил, что такого болвана, с выпяченной грудью, мы видели в комнате у портнихи. Только Галя вышла из спальни, как Слава, молчавший до сих пор, дал нам знак рукой. — Эх вы, шпингалеты, — сказал он. — Вместо того чтобы лазить по чердакам, мы должны обдумать, как лучше отомстить портнихе. Проучить ее надо. Я не сомневался, что именно он, Слава, придумает наказание Евгении Петровне. Не только Сереже, но и всем нам хотелось как можно скорей ринуться в «бой», сделать что-либо в пику этой женщине. — Завтра ночью мы покажем ей, почем сотня гребешков! — таинственно сказал Слава. И вот настал долгожданный час. Городок уже спал глубоким сном. Было морозно и тихо. Мы шли молча. Каждый думал свое. Засидевшиеся допоздна жители в этот час выключали свет и тушили лампы. Все реже сквозь шторы и ставни просачивался свет. Впереди шел Сережа, шествие замыкал Слава. Все наши карманы были полны камнями. Мне казалось, что это не камни, а боевые гранаты. Со всех сторон мы обступили дом на Поперечной улице. У каждого был свой сектор обстрела. Слава заложил три пальца в рот, свистнул и первый метнул камень. Сигнальная ракета не взвилась в небо, но разом засвистели десятки камней. Звякнули стекла. Я размахнулся. Снова свист, и, как по команде «пли», опять в ненавистные черные окна полетели наши камни. Кто-то в белом выбежал на крыльцо и сейчас же скрылся. Обстрел продолжался несколько минут. Мы слышали, как гремит железо, как падают с подоконников глиняные горшки, как мать Евгении Петровны истошным голосом зовет на помощь соседей. Вдруг мы увидели, как Андрей Давыдов быстро подскочил к окну, дернул створку рамы и исчез в темноте. Там мелькнул слабый свет электрического фонарика. Прошло несколько секунд — и раздался необычный шум и треск: из окна выпрыгнул Андрей, будто соскочил с ходулей; он тащил что-то белое, напоминавшее человеческую фигуру. Рядом с ним оказался Ваня Петров. Что-то большое упало в снег. — Вот он, манекен! — произнес Давыдов. Весь боевой запас уже был израсходован, и мы по заранее намеченному плану, окружным путем, уходили с поля боя, захватив с собой настоящий трофей. Но что мы с ним будем делать? Манекен жалобно скрипел, словно пытался вырваться из рук Андрея и Вани. -— Куда вы его? — забеспокоился Слава. Андрей не ответил. А Ваня Петров вдруг засмеялся: — Знай наших! Мы шагали через заснеженное поле. Подул ветер. Никогда еще в это время суток, да еще зимой, я не был у дома Степана Разина. Наша крепость продувалась ветром. Над входом висела гигантская сосулька. Андрюша и Ваня внесли манекен. По команде Андрея мы положили его на пол и начали закидывать снегом. — Так не замерзнет, — пояснил Андрей. Поодиночке, затаив дыхание мы пробрались в спальню. Трудно было заснуть. Мне хотелось пойти сейчас же к Капитолине Ивановне и все ей рассказать. Но ведь сейчас ночь. Это не положено правилами внутреннего распорядка. О ночном нападении говорил весь город. Подсчитывались убытки. Нас никто не спрашивал об этом «происшествии», хотя все в городке говорили, что это «работа» детдомовцев. Мы пошли взглянуть на взятый в плен манекен. Андрею пришла в голову мысль — превратить манекен в снежного человека. Мы подняли его с пола и поставили на ноги. Потом водрузили его в липкий снег и надежно укрепили, чтобы он не шатался. Облепили его снегом. Довольно ему быть безголовым. Мы приделали ему снежную голову. Потом манекен стал обладателем и двух рук; в одну из них мы воткнули настоящую, но довольно тощую метлу. Мы покрыли его снежным тулупом, а на голову надели кем-то выброшенную, широкую соломенную шляпу. Тулуп опоясали красным кушаком из кумача. Мы были довольны своей работой. Манекен стоял теперь, как на посту, у нашей крепости, похожий не то на деда-мороза, не то на дворника. Ваня Петров назвал вылепленное нами произведение памятником Степану Разину. В тот же день, когда мы укладывались спать, в комнату незаметно вошла Капитолина Ивановна. Она приходила обычно после вечерней линейки, читала Гайдара, причем обрывала чтение на самом интересном месте, и мы с нетерпением ждали продолжения в следующий вечер. На этот раз Капитолина Ивановна оперлась рукой о тумбочку и ждала, чтобы мы улеглись. Она показалась мне очень усталой. — Ребята, неладно у вас получается. Я пришла поговорить с вами о Вячеславе. Многие из нас посмотрели на Славу. Он сосредоточенно смотрел на потолок, будто приход директора не имел к нему никакого отношения. Знаешь, Вячеслав, нам нечего таиться. Давай поговорим при всех. Смотри, сколько в тебе плохого— сразу и не узнаешь. Где ты только всего этого набрался? Я все думала о твоих словах, о том, что ты считаешь себя испорченным, или, как ты говоришь, «конченым». Можно подумать, что ты даже гордишь ся этим. А знаешь ли, Слава, мой долг тебе сказать всю правду о тебе. Знаешь ли ты, что Ленин не одобрил бы твои поступки? — При чем тут Ленин? Против Ленина идут враги, а я не враг! — сказал Слава, сжимая подушку. Ты, конечно, не враг, а ведешь себя так, что враги бы могли порадоваться. А матери твоей было бы очень больно. — Ничего не больно. Она не такая умная, как вы! — вдруг закричал Слава. — И здесь ты ошибаешься, — сдержанно ответила Капитолина Ивановна. Она обратилась ко всем нам: — Мать Славы жива. После того как от голода на ее руках умер Славин брат, она потеряла рассудок. Но сейчас ей лучше, и она уже давно разыскивает Славу. — Я не хочу ее видеть! Если она придет сюда, мне будет стыдно. Раньше моя мама тоже была умная, а теперь она поет песенки и дерется. Я не могу слышать этих песен! Я все равно убегу от нее опять, уйду куда глаза глядят! Мне казалось, что Слава задохнется от своих же слов. «Как же так? —подумал я. — Мать жива, а он не хочет ее видеть!» Капитолина Ивановна подошла ближе к Славиной кровати: — От кого ты хочешь бежать? А кто позаботится о ней? Капитолина Ивановна села к Славе на кровать и сказала совсем тихо: — Кроме того, твои товарищи должны знать, что ты их обманул, проев на каймак и конфеты деньги, добытые, к сожалению, таким скверным, позорным путем. Слава вздрогнул. Андрей вскочил с кровати. Сережа тряхнул головой и насупил брови. Мы не могли опомниться от ее слов. Ведь как мы мечтали, что в газетах появятся наши объявления! Капитолина Ивановна продолжала: — Вы думаете, что отомстили портнихе, а она заявила, будто Галина Ивановна на нее натравила ребят. Капитолина Ивановна замолчала, а потом, не смотря ни на кого, сказала: — Я отвечаю за вас всех. Я хорошо запомнил все это. Капитолина Ивановна говорила, что никогда ей не надоест возиться с нами, и, если Слава спрашивает, кому он нужен, он должен знать — он нужен нам всем. И тут же Капитолина Ивановна сказала, что она с удовольствием нашлепала бы Ваню Петрова за то, что он выехал на палке во время урока, и мама его поступила бы так же. — Ведь верно? Но как я тебя нашлепаю, когда ты выше меня ростом? — с сожалением добавила Капитолина Ивановна. Мы попросили Капитолину Ивановну, чтобы она не уходила, еще нам что-нибудь рассказала. Она осталась. Начала рассказывать об Ульяновске, о доме, где жил Ленин. — Должно быть, летом и многие из вас побывают в Ульяновске, поймут, как высока была дружба в семье Ульяновых, как младшие и старшие братья и сестры уважали и понимали друг друга. Капитолина Ивановна несколько раз повторила тогда, что скоро мы поедем в Сталинград на слет детских домов всей области, выступим перед сталинградцами на олимпиаде со своей самодеятельностью, побываем на заводах и в гостях у шефов, а после, возможно, вверх по Волге, отправимся на пароходе в Москву. Эта весть взволновала всех мальчишек. Мы готовы были слушать и слушать об этом сто раз подряд. Я прижал руки к груди. Стало как-то тревожно, и я подумал: «С кем я увижусь?.. А вдруг!..» Так хотелось, чтобы скорей сошел снег!.. Как во сне уже мерещились родные улицы и доносились знакомые голоса. Капитолина Ивановна вдруг оборвала свой рассказ, пожелала всем доброй ночи, накинула на плечи пуховую шаль, еще раз внимательно взглянула на Славу и бесшумно вышла из спальни. Чем дальше время отодвигало нас от войны, тем больше страдал Сергей от того, что все забыл. Как и раньше, он верил, что ему поможет объявление. Он хотел описать все свои приметы, подходил к зеркалу и, чуть наморщив лоб, с удивлением смотрел на себя. Он спрашивал меня о цвете своих глаз и сердился, когда я говорил, что они карие. — Карие только у девчонок бывают! Как-то он снял рубашку и показал мне свою спину. Я тщательно исследовал ее, но ни одной родинки не обнаружил. — Нет! — уверял я его. Сергей огорчился. Он плохо спал, мало ел, был вялым, удрученным или куда-то спешил. По ночам он бормотал про себя что-то невнятное. Несколько раз ночью к нам в спальню приходила Светлана Викторовна и садилась у Сережиной койки. И Галя, и Светлана Викторовна, и Капитолина Ивановна думали о том, как бы помочь Сергею. Галя не сводила с него глаз, когда он вдруг менялся в лице и хватался за лоб рукой. Что-то мелькало в его глазах, но тут же ускользало. В нашем городке, на Астраханской улице, открылась фотография. В ее окне появились первые портреты. Редко кто из прохожих пройдет мимо и не взглянет. Андрей попросил Капитолину Ивановну взять со сберкнижки деньги, которые он получил после гибели отца. — Зачем тебе? Сережу снять на всю витрину. — Без твоих денег обойдемся, — ответила Капи толина Ивановна. Целой гурьбой пошли мы на Астраханскую улицу. Галина Ивановна и Захар Трофимович объяснили фотографу цель нашего прихода. Сережа очень волновался. Галина Ивановна, перед тем как причесать Сере-жины волосы, смочила их водой. Вихры улеглись. Захар Трофимович запротестовал и взъерошил Сережины волосы. Фотограф усадил Сережу перед большим фотоаппаратом. Сережа впился глазами в одну точку. Он сжал губы. Глаза его блестели. Он весь был устремлен куда-то вдаль... В комнате вспыхнул ослепительно яркий свет. Сережа так растерялся, что не сразу поднялся со стула. Через неделю большой портрет Сережи, наклеенный на толстый картон, был помещен в самом центре витрины. А еще через несколько дней все мы увидели портрет Сережи в красивой светло-коричневой деревянной раме. Как оказалось, это постарался старый бондарь Василий Кузьмич. Фотограф усадил Сережу перед большим фотоаппаратом. Капитолина Ивановна обещала вывесить еще две фотографии Сережи в других городах. Как-то Сергей первым проснулся и толкнул меня в бок: — Может быть, сейчас кто-нибудь на меня смотрит. А вдруг узнает? ...Ранняя весна пришла к берегам Невелички. Солнце с каждым днем грело теплей и ярче, сгоняя к реке бурные, мутные потоки. «Снежный человек» оттаял. Андрей замаскировал его соломой и прошлогодней травой. Пусть отдохнет без головы до будущего снега. ...В один из первых майских дней к нам в корпус вошел широкоплечий человек в форме летчика. Сразу было видно, что он побывал в боях. Не могло быть, чтобы у него от рождения так двоился подбородок. Несомненно, это шрам. Вслед за летчиком, который, как мне показалось, очень спешил, вошли Капитолина Ивановна и Светлана Викторовна. Летчик посмотрел на нас всех, а потом остановил свой взгляд на Сереже. Тот сразу насторожился. Капитолина Ивановна сказала: — Сережа, это твой папа! — Папа! — пронзительно закричал Сережа, за трясся всем телом и бросился к летчику. Должно быть, этот крик был слышен и в других корпусах нашего детдома. Летчик стоял посередине комнаты, широко расставив ноги, но вдруг закачался. Светлана Викторовна быстро подставила ему стул. — Сын! — прошептал он. Сережа забрался к нему на колени. Он гладил его по волосам, по лицу; прижимался то к его щекам, то к груди, на которой было много орденов. Он словно не доверял сам себе. А потом положил свою руку летчику на плечо, откинулся, пристально посмотрел ему прямо в глаза. Сережа вдруг спрыгнул с колен летчика, и снова его страшный крик заставил нас всех вздрогнуть. Сережа подбежал к своей койке и еще раз посмотрел на летчика, покачал головой и прошептал: — Нет, это не он. Мой папа был совсем другим. И тогда в тишине раздался взволнованный голос Капитолины Ивановны: — Каким же был твой папа? — У моего папы на фуражке был краб. Мой папа не испытывал самолеты, он строил корабли. Мы жили в Ленинграде. Мама отвезла меня в Сталинград. Сережа заговорил очень быстро, не в силах справиться со всем, что нахлынуло на него. Вначале мне даже показалось, что он бредит. Он откинул назад свою голову и говорил, говорил без конца, крепко ухватившись руками за спинку кровати. Все мы ловили каждое его слово. Мы уже забыли о летчике, как вдруг увидели, что он прикрыл свое лицо руками. Капитолина Ивановна дала знак, чтобы все вышли из спальни. Все это было очень непонятной даже досадно: о каком вдруг отце вспомнил Сережа, когда отец разыскал его и сидит с ним рядом! Сам не знает, что говорит. Но я ведь еще не знал тогда, что этот человек в первые дни войны потерял свою семью. Он жил надеждой напасть на след своего единственного сына. А когда исчезла надежда, решил усыновить мальчика. Капитолина Ивановна рассказала летчику, что у нас в детдоме живет мальчик, который забыл все, что с ним было раньше, и именно его летчик решил назвать своим сыном. Но случилось то, что трудно было даже предугадать: радость потрясла Сережу, и он вспомнил все, что забыл. Мы едем, едем, едем! Няня Дуся нам машет рукой. Она сказала: «Отдохну без вас, галчат, кофту к зиме свяжу». А я ей не поверил. До зимы далеко, мы уезжаем,
а Евдокия Петровна остается. Мне жаль няню. Наш городок не такой уж тихий. Спозаранку стучат плотники — они рубят пристройку к дому. А вот и навес. Под ним бочки и ушаты. Сыплются удары молотков. Это барабанят бондари. Они выбегают из мастерской. Кто машет нам клепкой, кто железным обручем. А у одного в руках целое днище. Машина чуть замедлила ход. Показался и Василий Кузьмич. Над седой головой он поднял свой картуз с блестящим козырьком: — Счастливо-о! Машина набирает скорость. Не успели мы опомниться, как оказались на станции. Оля испугалась, когда загудел, зафырчал и зашипел паровоз; а я бы верхом вскочил на него и понесся вскачь. Мы заполнили весь вагон. Счастливчики заняли места у окон. Слава и Сережа сейчас же забрались на третью полку. Все мы не отрываясь смотрели в окна, где нам навстречу неслись телеграфные столбы, сторожевые будки и зеленые флажки стрелочников. Скорей бы увидеть Сталинград! Вот уже по обе стороны полотна железной дороги искореженные танки, выкрашенные в жабий цвет, остовы разбитых вражеских машин и пятнистые орудийные лафеты. Когда они шли на нас, дрожала земля. Виднеются мотки колючей проволоки и окопы, заросшие сорняком. Кто-то пытался затянуть песню, но она не ладилась, так как мешала думать и смотреть. ...Вот и пошли, как у нас говорят, сталинградские «кочегуры», балки и холмики. К ним прилепились одноэтажные домишки, сделанные и из свежевыстроганных досок и из обгоревших бревен. Медленней, медленней идет поезд. И наконец колеса замолчали совсем. Я прыгаю с подножки. Даже не верится, что стою на сталинградской земле. А вот и такой знакомый перекидной мост над путями! Сталинградские пионеры протягивают нам букеты цветов. Вся площадь у вокзала полна людьми. Они пришли встречать детдомовцев. Нас ждали автобусы, украшенные цветами и зелеными ветками. Шофер открывает дверцу. Мне кажется, что я его где-то видел раньше, так же как и почтальона с сумкой, который машет нам пачкой газет. Оля поглаживала блестящие никелированные защелки у окон автобуса, а я смотрел в окно. Так хотелось всюду побывать, взобраться на Мамаев курган, побежать на набережную к Хользунову, заглядывать в окна, дворы! Если бы можно было попридержать автобус, чтобы он останавливался на каждом углу, у вывесок, плакатов, витрин... Еще повсюду виднелись груды битого кирпича и железные прутья перекрытий, но расчищенные и подметенные тротуары придавали улицам опрятный вид. Эх, если бы записать тогда все наши возгласы, все слова! Ведь по этим улицам мы учились ходить. Вот, вот, посмотрите, я жил здесь до войны! На этом стадионе мой папа в футбол играл! А тут был магазин, в нем мама работала про давщицей. А вот по этой улице дедушка любил гулять! А я с бабушкой на этой остановке слезал, когда в детский сад ездил! И мы вспоминали каждый свое: кто — круглый стол под яблоней, кто — качели, кто — киоск, где продавался квас... Сережа дернул меня за рукав: да, он прав, именно здесь стояли солдатские кухни, и отсюда дяденька потащил нас в детский приемник. Автобус остановился в центре города, у здания восстановленной школы. Не успели отдохнуть — в баню, из бани — в столовую. Где бы ни появлялись, нас обступали незнакомые люди, начинали расспрашивать, угощать лимонадом, пирожными, приглашали к себе в гости; спрашивали, нет ли в нашем детском доме тех, о ком им очень хотелось хоть что-нибудь узнать. И мы тоже спрашивали о своих знакомых, соседях, но только немногие счастливчики нападали на след... Тогда сталинградцами стали тысячи людей, приехавших из всех советских республик восстанавливать наш город. Жар шел от развалин, разогретых солнцем. Когда налетал ветер, молодые деревья шумели своей скромной листвой. Но они не могли еще защитить нас от горячих лучей. Я с удовольствием слушал перезвон трамваев. У трамвайных рельсов вспыхивали огни электросварки. В мои глаза изредка попадал наш сухой сталинградский песок, поэтому они чуть слезились. Галя позволила мне вместе с Сережей пройти к памятнику Хользунову. Мне хотелось пройти пешком там, где нас промчал автобус, а потом повернуть обратно и выйти к Волге. Вначале мы даже взялись за руки. Нечего болтать, когда так много надо увидеть. А на Сережу вдруг нашло: идет со мной по сталинградской улице и без умолку говорит о своем Ленинграде. В другое время я слушал бы его не отрываясь — и про Васильевский остров, и про раздвижные мосты, — но сейчас ведь мы шли по Сталинграду. — Замолчи! — Я сжал ему руку. И сразу вспомнил о своей спутнице, о ее шершавой руке. Вот с кем бы я сейчас все облазил, всюду побывал, все вспомнил. Уже сколько часов я в Сталинграде, а до сих пор не встретил ни одного знакомого человека. Только подумал я об этом, как, к великому своему изумлению, вдруг увидел знакомое лицо в окне дощатого павильона, пристроенного к длинному забору. Это была фотография Сережи. Капитолина Ивановна выполнила свое обещание. Этот портрет был не в раме, но зато под ним была надпись с адресом нашего детдома. Сергей даже отпрянул назад. Он сказал, что надо снять фотографию. А я подумал про Сергея: «Вот ходишь со мной по пыльному городу, а тебя, возможно, уже ждут на Васильевском острове». Сережа задумался и замолчал. Мы повернули обратно, не дойдя до вокзала. Я внимательно смотрел по обе стороны мостовой. Кругом руины, а над землянкой, как на большом доме, висел номер: «Улица Ленина, дом № 1». Хозяин землянки стоял рядом со своим «особняком» и вел разговор с обступившими его прохожими. Он рассказал, что на этом углу стояло большое здание. Он жил в нем; поэтому и землянку свою соорудил «по месту жительства». — Здесь жил и здесь жить буду! Заходите, товарищи, в гости! Мы вышли к набережной. Все так же спокойно текла Волга. Белый речной трамвайчик трудился обоими своими колесами, направляясь на тот берег. Черные дымки барж и пароходов вились над речным простором. Как прежде, на своем гранитном постаменте стоял наш летчик, комдив Хользунов. В сумерки сильнее запахли цветы в скверах, и множество мошек кружилось в воздухе, залетая то в рот, то в уши; я отмахивался от них. Мы вернулись в школу. Очень устали за этот день, но все не могли оторваться от окон. Темнота скрыла руины, и город заблестел множеством огней, будто весь он целый и невредимый, такой, каким был до войны. Там «Красный Октябрь», там, близко от дома, а дома нет. Шум города не затихал, но теперь он доносился издалека и убаюкивал. Пока мы спали, сталинградки электрическими утюгами гладили наши костюмы, платья девочек, пионерские галстуки... Каждому из нас под кровать были поставлены новенькие тапочки. На следующий день под барабанную дробь, со знаменами и флагами мы вступили на площадь Павших Борцов. Заиграл сводный оркестр детских домов Сталинградской области. С другой стороны на площади выстроились пионеры города. Ровными рядами окружили мы братские могилы защитников красного Царицына, зверски замученных и повешенных бароном Врангелем в 1919 году, и братскую могилу защитников Сталинграда в Отечественной войне. Я иду в колонне тех, кто несет венки живых цветов. Все смотрят на нас. Мы кладем венки на могилы и все как один опускаемся на колени. И тогда вместе с нами тысячи людей также опустились на колени. Воцарилась необычная тишина. Замерла огромная площадь. Может быть, здесь, в братской могиле, лежит и мой отец. Над площадью полилась траурная музыка. Мы поднялись и услышали громкий голос: — Мы хотим, чтобы дети всего мира никогда не знали, что такое война! На следующий день началась олимпиада. Мы пели и плясали, а те, кто сидел в зрительном зале, вспоминали, как нас откапывали и находили в ямах... ...Нас катали в легковых машинах, на речном трамвайчике, на каруселях. Показали работу пожарного парохода «Гаситель». Ярко блестели на солнце начищенные медные трубы. Вдруг из всех труб во все стороны брызнула вода, и небольшой пароход сразу стал похож на огромный фонтан. В зверинце мы увидели слона. С восторгом угощали его морковкой, а он приветствовал нас, помахивая то хвостом, то хоботом. С особым уважением смотрели мы на слона, так как вспоминали своего сталинградского непокорного слона, который долго пугал немцев. Сегоцня — зверинец, завтра — «комната смеха»... Утром нас будил колокольчик, и начинался летний большой сталинградский день. Рабочие «Красного Октября» пригласили нас в гости. К школе подъехал большой автобус. Человек, сидевший рядом с шофером, вышел из кабинки и громко поздоровался с нами. Каково же было мое удивление, когда он вдруг спросил: — Кто из вас Геннадий Иванович Соколов? По всему выходило, что он спрашивал обо мне. Но ведь еще никто никогда не величал меня так. Я отозвался, а он протянул мне руку и пробасил: — Да, тебя, брат, не узнать. На целую голову выше стал. И я не сразу узнал его. И не мудрено: тогда в полушубке и в ватнике он показался мне очень внушительным. А теперь на нем был легкий парусиновый пиджак, на макушке его бритой головы блестела пестрая тюбетейка. — Инженер Панков! — напомнил он. Признаться, фамилию его я уже забыл. Но то, что этот человек знал моего отца и угостил меня когда-то салом и шоколадом, сразу воскресло в моей памяти. — Директор завода лично поручил мне разыскать вас, Геннадий Иванович, — сказал Панков. ...Чем ближе к заводу, тем многолюдней на трамвайных остановках. Банный овраг, мост и давнишняя знакомая — Тещина остановка! Параллельно Волге, шоссе, трамвайным путям бежало и железнодорожное полотно. Привычно прогудел и загромыхал пригородный поезд. А вот и кирпичные трубы выстроились, как великаны! По воде, по рельсам, по шоссе, обгоняя друг друга, неслись машины; проходили баржи и поезда. Автобус свернул в сторону и остановился. Мы прошли мимо здания заводоуправления. Повсюду с огромных щитов на нас смотрели надписи и плакаты; они призывали мартеновцев дать стране высококачественную сталь. На одной стене мы с трепетом прочитали выведенные неровной рукой священные слова: «Здесь стояли насмерть таращанцы». Почерневшая, закопченная каменная коробка разрушенного здания... Инженер Панков объяснил, что здесь была центральная заводская лаборатория, а теперь окрашенные специальным составом развалины в память боев будут сохранены на века — для истории. Мимо нас пропыхтел паровозик. Он вез за собой по узкой колее огромные ковши, заполненные расплавленным металлом. Вот-вот выплеснет. Мне не верилось, что наконец я попал на завод. Ведь еще совсем маленьким я часто приставал к отцу, спрашивая его, «в какой трубе он работает», и просил принести «какую-нибудь железку». Отец все собирался повести меня на завод, но так и не пришлось ему выполнить свое обещание. Меня не покидало ощущение, что отец где-то здесь, рядом, а я пришел к нему в гости. Инженер Панков показал нам огромные электромагнитные краны, которые притягивали к себе железный лом. В грудах искалеченного, заржавленного металла можно было увидеть гусеницы танков. А вот и немецкая каска, вся в дырках. Мы на мартене. Нам разрешили посмотреть в печь сквозь синие стекла. Там бушевал свирепый, неистовый огонь. Огромная печь гудела и вздрагивала. Я бы смотрел и смотрел туда, не отрывая глаз от защитных стекол, но мне надо было уступить место другому. А дяденька сталевар даже пошутил: — Ну, как вам нравится, как суп наш варится? А себя он назвал «поваром» и ткнул пальцем в свою войлочную шляпу: — Только та разница, что колпак не белый! Не хотелось уходить отсюда! А тут еще Панков сказал пожилому сталевару, показав на меня и Олю: — Познакомься, Игнат Кузьмич, Ивана Соколова дети. Мы на мартене. Усатый сталевар приветствовал нас своей рукавицей. Как оказалось, это был мастер и работал когда-то сталеваром вместе с моим отцом на одной печи. Мы побывали и на блюминге и в других цехах. Раскаленные слитки с легкостью летели в валы, переворачивались и, вытягиваясь огненно-красными, сияющими лентами, ложились на чугунный пол. С великолепной ловкостью человек подхватывал клещами раскаленную стальную нить и направлял ее дальше, чтобы она стала еще более тонкой. Экскурсия окончена. Над нами голубое небо и заводской двор, разогретый солнцем. Инженер Панков всех нас пригласил к директору. Мы вошли в здание заводоуправления, поднялись наверх по широкой лестнице и оказались в огромной комнате. Нам навстречу вышел невысокий человек. Это и был директор. Мы сели к столу, заставленному тарелками с конфетами и фруктами. Чтобы мы не смущались, директор сам протянул руку за конфетой и, медленно развертывая бумажку, приказал нам всем последовать его примеру. В кабинет один за другим входили рабочие. Я очень обрадовался, когда вновь увидел Игната Кузьмича. Он пришел в своей рабочей одежде, но уже без рукавиц. Тут же собрались и женщины — жены рабочих, лаборантки, служащие заводоуправления. Игнат Кузьмич подвел меня и Олю к полной женщине, подтолкнул нас друг к другу. — Разве можно так с детьми обращаться? — сказала женщина и улыбнулась нам. Игнат Кузьмич, не выпуская наших рук, сказал: — Знакомься, Матрена Афанасьевна, Ивана Соколова потомство. А нам он пояснил: — Моя хозяйка! Директор сказал, что все воспитанники детских домов очень дороги рабочим завода; краснооктябрьцы благодарят нас за посещение и дарят свои скромные подарки. Мы стали обладателями, трикотажных спортивных маек, бутсов, готовален, шахмат, шашек, настольных игр, коробок с разноцветными нитками для вышивания и многих книг. А одну очень красивую куклу женщины подарили Оле. Директор поднял руку, показав этим, что он еще что-то хочет сказать. Снова стало тихо. Он подошел к небольшому коричневому шкафу, и я услышал, как щелкнул замок. — Гена Соколов! Инженер Панков, оказавшийся рядом, подтолкнул меня. — Прошу тебя, Гена, подойди сюда, — сказал ди ректор. И вот я стою рядом с ним. — Дорогие товарищи! — раздался надо мной внятный голос. — Я хочу передать сыну нашего славного сталевара Соколова, который погиб геройской смертью, защищая родной завод, часы отца. Я почувствовал слабость и холодок во всем теле. А потом, будто подбросило меня взрывной волной... Снова сыплется штукатурка, дым и пыль заволакивают глаза... В кабинете стало очень тихо. Все разом пронеслось передо мной — мамино лицо, склоненные знамена перед братскими могилами... Я сжал руки: «Держись, Гена, держись!» Директор достал часы из несгораемого шкафа. Я боялся взглянуть на них. Может быть, это ошибка. Директор держал небольшую коробку. Я никогда не видел этой коробки. Но директор приоткрыл крышку, и я увидел часы. Да, это были те самые часы, которые я отдал врачихе. Но как же из сумочки, висевшей у нее на руке, они попали в несгораемый шкаф? — Эти часы передал на завод демобилизованный воин, душа человек; из дарственной надписи он узнал, что часы были вручены сталевару «Красного Октября» товарищем Серго Орджоникидзе. Часы замечательные, — сказал директор уже совсем другим голосом. Мне захотелось рассказать всю историю этих часов — про Валю, про гитлеровского офицера, сопровождавшего врачиху, но я ничего не мог вымолвить. Я взглянул на Олю. Она сидела среди подружек, обняв новую куклу. Увидел лицо инженера Панкова. И вот уже коробочка в моей левой руке, а правую крепко жмет директор. Он целует меня: — Будь таким, каким был твой батька! Батька! Никто еще никогда так не называл моего отца. Я отошел и прислушался к ходу часов. Тикают! Сережа не утерпел и несколько раз приложил часы то к одному уху, то к другому, а потом произнес многозначительно: — Да! Директор, прощаясь с нами, сказал: — Вот подрастете, кто из вас захочет стать металлургом, милости просим. Игнат Кузьмич на этот раз очень осторожно взял Олю за руку и подвел к Матрене Афанасьевне. — Вы, Соколовы, теперь мои гости. Вашему на чальству все известно; разрешение получено, и даже с ночевкой. Доставим целыми и невредимыми. Олю сейчас заберет с собой Матрена Афанасьевна, а ты со мной! — сказал Игнат Кузьмич. Я сунул коробку с часами в карман и зашагал рядом с Игнатом Кузьмичом на мартен. Игнат Кузьмич рассказал, что в дни сражения передовая проходила по мартеновскому цеху, где мы сейчас находимся, между старыми и новыми печами. — Морозы начались, а от печей еще жар шел. Бы вало и так: внизу под печами немцы, как в пещерах, сидят, а наверху — наши бойцы. Когда фашистов гранатами из мартена выбивали, их даже из изложниц вытаскивали. И еще рассказал Игнат Кузьмич, как вернулись сюда старые рабочие восстанавливать мартен. Тогда в цеху, как в лесу, куковали кукушки. Он объяснил, что сейчас идет скоростная плавка. Меня обдает жар, и на лбу выступают капельки пота. А подойдешь ближе — обжигает с непривычки. Даже глазам жарко. Как бы брови не спалить! Один из сталеваров, подручный, заглянул в печь, а потом повернул какой-то рычаг, и приподнялась тяжелая заслонка. Ловким движением сталевар засунул в нутро печи длинный черпак с маленькой ложечкой на конце. Вот он вытащил его обратно. Снова закрылась заслонка, и из ложечки вьюном на чугунную плиту полились золотые искры. Они летят и брызжут во все стороны. Сталевар вылил расплавленный металл из ложечки на плиту, и тут же девушка подхватила только что откованные кусочки взятой пробы и побежала с ними в лабораторию. Игнат Кузьмич сказал мне, что скоро будут выпускать плавку. Сталевар медленно разделывал выходное отверстие. Водопадом ринулась сталь. Я стоял на высокой площадке и смотрел, как сверкающая золотая струя текла вниз, продолжая бурлить и искриться в огромном ковше. Люди отходили в сторону, вытирали пот с лица рукавицами и жадно пили воду. Я подумал: вот так же трудился здесь и мой отец. Если раньше я чаще всего вспоминал отца таким, каким видел в последний раз, когда он, надев на голову каску, медленно затянул ремешок под подбородком, то теперь он был перед моими глазами в брезентовой спецовке, в синих очках, поднятых на широкополую шляпу, и в валенках на ногах. Отец всегда на рынке искал старые валенки... Кругом все шипит. Кран поверху ходит-звенит. Вдруг мимо пробежал Игнат Кузьмич. Он позвал меня за собой. Кто-то крикнул совсем рядом: — Хромистой руды! Ломики! Подручные забегали. Сталевары напоминали мне артиллеристов во время боевой стрельбы на огневой позиции. Все у печи уступили дорогу невысокому жилистому человеку. — Федя, не промахнись! — Не промахнусь! И Федя, размахнувшись, кинул в печь тяжелый кусок руды — туда, где особенно яростно бурлила сталь. Вслед за ним подбежали и другие подручные и также кинули в печь тяжелые куски. В это время кто-то закричал: — Дери козла! Из печи тоненькой струйкой полилась сталь, рассыпая по площадке тысячи искр. Федя снова бросил в печь руду, преградив дорогу огненной струйке. Игнат Кузьмич громко скомандовал: — Подать ковш! Федю будто кто водой окатил. Он вытирал рукавицей капли пота со лба и щек. — Молодец, парень! Благое дело сделал! Если бы проморгал, потеряли бы полплавки, — сказал ему Игнат Кузьмич, Я ни о чем не стал расспрашивать, хотя мне очень хотелось узнать про «козла». Я представил себе козла с пламенем вместо бороды, который вылезает из печи и начинает бодаться. Только потом я узнал, что это за «козел». Говорят: «Пусти козла в огород». А чтобы не пустить его в печь, надо лучше заделывать «порог» после выпуска стали, не оставлять в печи «козелка», который будет выход искать и «закозлит» плавку. Много бед может натворить такой «козелок». Уйдет сталь, и печи на ремонт станут. И не подсчитать убытков. И еще узнал я, что, если бы Федя и другие подручные не задрали «козла», в «драку» с ним вступила бы заволочная машина; она зажала бы его своим хоботом. Машинист только ждал команды. Но уход металла был предотвращен, и мне не пришлось видеть бой «слона» с «козлом». Игнат Кузьмич не отпускал меня от себя ни на шаг. Загудел гудок. Кончилась смена, и мы пошли с ним в «бытовые», где Игнат Кузьмич вымылся, переоделся и меня заставил принять душ. Он посоветовал не вытираться. И действительно, не успел я одеться, как уже стал сухим. Вместе со сменой уходил я с завода. Как хорошо шагать, когда с тобой рядом идут в одном направлении сотни людей! По дороге мы зашли в небольшую парикмахерскую. Игнат Кузьмич решил побриться, как он сказал, «ради гостя», и подправить усы. — Усы-то у меня от старинки остались, а нос — как у самого молодого. Раньше сталевары с красными носами от ожогов ходили, все в печь носы совали, автоматики и контрольно-измерительных приборов в помине не было, на глазок работали и тремя крестами расписывались. А теперь и мне приходится физику и химию изучать. Нос-то не красный, но надо не зевать, чтобы молодые нам, старикам, нос не утерли, — говорил Игнат Кузьмич, пока парикмахер намыливал ему щеки. Он поднялся с кресла и сказал: — Садись, Гена, твоя очередь. Ты не стесняйся, — и потянул меня за рукав. Я недоумевал, так как перед поездкой в Сталинград нас всех подстригли. — Прошу освежить сына сталевара «Цветочным». Я закрыл глаза. Парикмахер, узнав, что я участник олимпиады детдомов, щедро поливал меня одеколоном. А в моих закрытых глазах продолжали колыхаться огненные цветы, которые я только что видел на мартене. Я чувствовал, как в кармане продолжают тикать отцовские часы, будто были они не карманные, а стенные, со звучным боем. Еще издали Игнат Кузьмич показал мне белый дом под черным толем. — Вот видишь, после войны какое себе гнездо сви ли. Сами все сделали, даже плотников не нанимали. Откуда и прыть взялась! Мы шли по дорожке, посыпанной песком. В ушах все еще стоял непривычный гул, но уже хорошо дышалось. Свежий воздух будто сам врывался в грудь. — Дай я перед тобой похвастаюсь. Все это я свои ми руками посадил. Правда, тесновато. Вишня, абри кос, слива, яблоня родить будут. Вначале соседи смеялись, а теперь тоже вроде обезумели: то дай им отро сточек, то черенок клянчат. Этой весной даже соловьи на моих деревьях распевали. Матрена Афанасьевна позвала нас. У себя дома, за столом, в цветистом халате, она показалась мне еще полней. Оля уже вполне здесь освоилась. Она зажала между колен медную ступку и с важным видом, прислушиваясь к звону, медным пестом разбивала кусочки сахара. Так наперчил мне борщ Игнат Кузьмич, что даже слезы выступили. Но я всю тарелку одолел и от второй не отказался. Игнат Кузьмич тоже с аппетитом причмокивал и борщ похваливал, будто ел его впервые, а сам все поглядывал в открытое окно на свой садик. Вдруг он отодвинул ложку, пошевелил усами и сказал, задумавшись: — Да! И твой отец, Иван Сергеевич, как волчок, у печи вертелся! Игнат Кузьмич никуда не спешил. Он все вспоминал, как он на рыбалке с моим отцом жирную уху варил; как сома в пять пудов однажды поймали, а может, и не пять, кто его вешал! Игнат Кузьмич долго смотрел на Олю, а потом сказал: — Отец, отец — и лоб его, и взгляд, и усмешечка. Даже носик, как у сталевара, облупился. Тут и Оля захотела принять участие в разговоре: — Я осенью в школу пойду! Матрена Афанасьевна пила чай из блюдца и подробно расспрашивала нас о жизни в детском доме. — Хорошо, хорошо воспитаны, — несколько раз повторил Игнат Кузьмич. А Матрена Афанасьевна все продолжала допытывать. Я ей говорю: «Хорошо живем», а она словно не верит и вздыхает. За окном темнело, но свет в комнате не включали. У окна что-то вспорхнуло и зашуршало. Игнат Кузьмич пояснил: Летучая мышь у меня на чердаке квартирует. Повиснет вниз головой и спит. А сейчас самая ее ра бота — вредных насекомых поедает. Не люблю я ее, полуночницу! — сказала Ма трена Афанасьевна и стряхнула чайным полотенцем крошки со стола. На стене тикали большие часы. — Взгляни на свои, — сказал мне Игнат Кузьмич. В это время стенные пробили десять. И у меня стрелки показывали ровно десять. Матрена Афанасьевна подробно расспрашивала про жизнь в детском доме. — Смотри не разбей! — строго сказала Оля. Матрена Афанасьевна ввела нас в просторную комнату. Сняла пикейные одеяла с кроватей, взбила подушки, постелила нам новые простыни. Оля лежала на широкой кровати, и я на такой же — напротив. Как это было непривычно! Ведь уже столько лет мы не спали в одной комнате. На этот раз я смотрел на Олю с особым чувством — ведь я уже и раньше слыхал, что сестра моя похожа на отца, но никогда об этом не думал. Оля только дотронулась головой до подушки и сразу заснула. Давно я не оставался в такой тишине. Горький комок подступил к горлу. Значит, теперь уже нечего ждать отца... И тут же я подумал об отцовских часах, таким чудом ко мне вернувшихся. Должно быть, невесело пришлось гитлеровскому офицеру. Я представил себе, что могло быть с часами. Вспомнил и фонарик, который был в руках у гитлеровца, а самое главное — вкрадчивую Елену Алексеевну. Может быть, она жива и невредима — перелицованная тетка. Я отвернулся к стене, закрыл глаза и увидел перед собой дом, в котором мы жили все вместе. ...Отец позволил мне поводить помазком по его небритой щеке. Как выгорели у него брови на солнце. Мать метит белье, а потом складывает... Я почему-то вспомнил, как купили мы новые стулья и как мне хотелось посидеть на каждом стуле, и я перелезал с одного на другой; вспомнил, как мама выбегала отцу навстречу; как отец мечтал о моторной лодке... Вдруг мне показалось, что дом закачался. Во сне или наяву я услышал неистовый крик. Я с трудом открыл глаза и увидел: Оля в рубашонке стоит на постели и испуганно смотрит по сторонам. Я хотел броситься к ней, но тут же увидел Матрену Афанасьевну и Игната Кузьмича. Он был очень расстроен и перепуган, не знал, что сказать Оле. Она разбудила их громким криком. — Ничего, ничего, — успокаивала мужа Матрена Афанасьевна. — Это все война наделала. Растет девочка во сне. — Она снова уложила Олю, а рядом с ней — куклу. Сестра моя не произнесла ни одного слова и снова заснула как ни в чем не бывало. А мне не спалось. Я ворочался с боку на бок почти до самого рассвета. В дверях показалось лицо Игната Кузьмича, он прислушался, как спит Оля. Несколько раз тявкнул пес, и я вспомнил, как мы с Шурой, когда пробирались ночью к поселку Лазурь, встретили большого лохматого пса с поднятыми острыми ушами. Он стремглав кинулся к женщине, которая шла впереди нас рядом с военным. «Как же мы возьмем его с собой, когда людям негде поместиться. Я бы взяла его, а они что скажут?» И тогда военный начал отгонять пса. А он вилял хвостом, так просил взять его с собой. Он полз за ними, вначале выл, а потом перестал и полз молча... И тогда разорвалась мина. Мы припали к земле. А когда поднялись, в свете вспыхнувшей ракеты увидели: пес не ползет, он лежит, и набок свесилась его умная морда... На заре я заснул. А когда проснулся, окна в комнате были открыты и ветерок шевелил занавески. Все было залито солнцем. Оли уже не было в комнате. Я вышел на крыльцо. Игнат Кузьмич уже ушел на мартен, и мне было досадно, что я проспал гудки утренней смены. Меня потянуло на улицу. Я открыл калитку и зашагал. Вон там, за углом, была булочная. Я бегал туда за пряниками и любимым чайным хлебом. Этот новый дом выстроен недавно. Трансформаторная будка... Она сохранилась, и на ней все тот же череп и под ним молнии. Теперь на этих улицах ничто не угрожает людям, а ведь здесь воины-сталинградцы дрались с врагом. С каждым шагом я приближался к тому месту, где стоял наш дом. Виднеются груды обгорелого кирпича, а рядом, на расчищенную площадку, свозят строительный материал. Женщина-дворник поливает мостовую. И мне сразу все вспомнилось. Это она тогда вместе с Шурой подняла и понесла маму... Вот она посмотрела на меня. Тетя Анюта любила направлять струю из своего шланга в нас, мальчишек, и устраивать нам веселую прохладную баню. Сейчас на ней, как всегда, белый фартук. Неужели она прицелится в меня? Но тетя Анюта бросила шланг на землю, и струя ручейком потекла по земле. — Белобрысый мой!—закричала она на всю улицу и подскочила ко мне, обняла обеими руками и чмокнула в щеку. Уже давно меня никто так не обнимал. Ты помнишь меня? — спросила она и сама же ответила: — Ну конечно, помнишь! Я тебя знала, когда ты в пеленочках лежал, вот такой. — И тетя Анюта показала мне на свою ладонь. — Ну, а сестренка твоя? Оля здесь. Где здесь? Жива? Я показал рукой на черную крышу. Тетя Анюта подбежала к крану и отключила шланг. — Как же не повидать мне девочку! И она пошла со мной к Игнату Кузьмичу. Через несколько минут тетя Анюта говорила Оле: — Вот в таких платьицах ходила. Потом тетя Анюта посмотрела на нас и сказала: — Сразу видно, одного отца д
ети! Значит, и я хоть немного, а похож на отца! У калитки остановилась легковая машина. — Почет и уважение великим садоводам! — ска зал директор, появившийся у окна. Директор торопился: ему нужно было успеть в город. — Ну-ка, посмотри на свой хронометр, сколько на твоих? — весело спросил он меня. И мы сверили время. Матрена Афанасьевна и тетя Анюта вышли нас провожать. — В следующий раз приедешь — с головы до ног окачу! — крикнула тетя Анюта. — Держитесь друг за друга, двое — не один! — сказала нам Матрена Афанасьевна и крепко поцеловала. И вот опять замелькали новые корпуса, чередовавшиеся с развалинами. Директор, сидевший рядом с шофером, то и дело оборачивался и спрашивал, что больше всего нам понравилось в Сталинграде. Когда мы подъехали к подъезду школы, директор крепко пожал руку мне и Оле. И я подумал, что ведь это он заехал за нами и проводил не потому, что я и Оля этого заслужили, а потому, что нашего отца знали, любили и помнили на заводе. ...Снова я смотрю на часы. Мы покидаем школу и под барабанную дробь спускаемся к пристани. У причала покачивался большой белый пароход, украшенный зелеными ветками, на этот раз не для маскировки. Наш путь: по Волге — в Москву! Мы на верхней палубе. Смотрим на провожающих. Их так много! Весь город вышел нас провожать. Мне снова кажется, что я знаю здесь всех до одного. Третий гудок! Убирают трап. Какой-то дяденька шеф кричит: — Не беспокойтесь, обязательно пришлем вам лыжную мазь! Над берегом закачались руки; не знаю, как лучше сказать: море рук или лес рук. Будто все они хотят задержать нас еще на несколько секунд. Пароход отдал чалку и, рассекая волны, плавно отвалил от пристани. Вначале мне казалось, что это плывет не пароход, а берег: плывут дома, баки, пакгаузы. У причалов разгружались огромные, просмоленные баржи с песком и камнями, виднелись строительные леса, доносились гудки. Вот и трубы «Красного Октября»! Я замахал им рукой. Горн возвещает сбор на верхней палубе. Наш белоснежный плавучий лагерь набирает скорость. Кроме речного вымпела, над пароходом развевается и пионерский флаг. ...Я проснулся и осторожно, чтобы никого не разбудить, поднял жалюзи. Вот-вот погаснут бледные огни бакенов. Из-за горизонта поднималось солнце. Оно осветило вершины деревьев на крутом, обрывистом берегу, а потом заиграло в воде. Вздымая за собой пенистую волну, наш плавучий лагерь дал ответный гудок встречному пароходу. Через несколько дней — Ульяновск. Впереди — Москва! Прежде чем закончить свой рассказ, я должен перевести часовые стрелки на много лет вперед. Совсем недавно я снова побывал в городке, который весной 1943 года приютил нас, маленьких сталинградцев. Городок этот кажется мне бесконечно милым; его улочки тенисты, заборы увиты плющом. В палисадниках алые маки и тюльпаны, солнцелюбивые подсолнухи на огородах и белая акация в городском саду. Дома пахнут свежим тесом. Все они совершили путешествие с ныне затопленных улиц на новые участки, где раньше начиналась степь. Их везли тракторы и «домовозы»; провожали и встречали, как людей. И наш детдом теперь также в новом здании, наверху. Вокруг него разбит сад с аллеями и зеленеют тополя. И рядом новое здание школы. А там, где мы жили, на месте старых флигелей, которые без конца ремонтировали, — берег Цимлянского моря, поглотившего нашу некогда тинистую речушку, почти высыхавшую в жару. Даже трудно поверить, что именно здесь мы часами шлепали по воде, вытаскивая из прибрежных камней улиток и кусачих раков. Липы в городском саду разрослись, стали выше, тенистей, под ними вспомнил я Василия Кузьмича: не дождался он бочкотарного завода со станками, электропилами и электросваркой... Теперь это самое большое предприятие в городе. По вечерам, когда зажигается свет в больших квадратных окнах нового здания детдома и ветерок с моря колышет белые занавески, детдом — как огромный маяк. Его огни встречают и провожают пароходы, катера и баржи степного моря. ...Жизнь раскинула нас по всем уголкам страны. Многие из нас стали учителями, фрезеровщиками, летчиками, закройщиками, музыкантами... В витрине городской фотографии выставлены снимки моих друзей и знакомых. Так уж заведено у нас, что каждый из бывших воспитанников детдома, приезжая в городок, не забывает фотографию и снимается «на память». — Это важно для истории, — глубокомысленно говорит фотограф. На видном месте в витрине фотографии висит портрет нашей «цыганочки Земфиры». Жизнь у нее самая «кочевая». Бывая в Сталинграде, она заезжает в детдом. Несколько лет назад ее разыскали настоящие родители. Но она не оставила и «приемных». Вернее, и к тем и к другим приезжает в гости. Как выяснилось, Земфира вовсе не «цыганочка» и не Земфира, а Аня. Совсем недавно мы, бывшие воспитанники детдома, живущие в Сталинграде, читали письмо, которое пришло в нарядном конвертике с рисунками пальм. Это писала нам Земфира-Аня. Танцы стали ее специальностью. Она артистка одного из ансамблей народного танца, побывала во многих странах. А теперь письмо от нее пришло из города Ханоя — столицы Демократической Республики Вьетнам. Анна-Земфира написала нам, что вьетнамцам очень нравится украинский гопак. Но трудно танцевать, когда в тени больше сорока градусов. Андрюша Давыдов и Ваня Петров также увековечили себя в городской фотографии. Андрей все годы занимался музыкой. Он стал военным дирижером. На одной из сталинградских олимпиад он нашел брата. Ваня Петров заведует посудо-хозяйственным магазином. Не знаю только, продолжает ли он смешить своих новых друзей и товарищей. Думаю, что и стариком он будет все таким же «невозможным». До сих пор он ищет, но не может найти своих родных. И он не один. Капитолина Ивановна рассказывает, что до сих пор на адрес детдома приходят письма от тех, кого разлучила война. Слава нас всех перегнал. Он закончил в Москве институт и стал дипломатом. Капитолина Ивановна пророчит ему большое будущее. Ну, а Сережа — кем он стал? По следам Сережиной памяти удалось разыскать только его родственников. Они жили в Одессе и в Ленинграде. Сережа стал носить фамилию своего отца, инженера Дынина, который погиб, когда советские моряки оставляли Таллин. А свое имя моему другу не пришлось менять, так как он действительно оказался Сергеем. Когда Дынин окончил семилетку, он не отправился ни в Одессу, ни в Ленинград к своим родственникам, а поехал к летчику, который хотел стать его отцом. Они сдружились на всю жизнь. Письма от Сережи приходили из Архангельска, и из Владивостока, и из многих других городов. А потом на его письмах стало красоваться: Ленинград. Осуществилась мечта Сергея—он стал слушателем Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова. Оля стала садовницей. Тысячи корней гвоздики высадила она в Пионерском и Комсомольском садах Сталинграда. Хочет стать инженером зеленого строительства. Особенно уговаривает ее это сделать Игнат Кузьмич. Если бы им дать волю, они бы озеленили все пустыри, все бы фасады обвили плющом; сажали бы полевые цветы на клумбах, а все братские могилы и мемориальные постаменты с небольшими моделями танков, которыми обозначен теперь передний край Сталинградской обороны, окружили бы незабудками. Сколько лет прошло, а Оля до сих пор вздрагивает и кричит по ночам. Я стал сталеваром и даю скоростные плавки; учусь в вечернем металлургическом институте. Нам преподает инженер Панков. Не могу не рассказать и о Шуре. Впервые после войны я встретился с ней, когда пароход с детьми Сталинграда рано утром пришвартовался в Московском речном порту в Химках. Она прикрыла мне рот рукой, притянула к себе и долго молчала, прежде чем начала говорить. Я никогда не видел ее такой нарядной. Ей очень шел белый офицерский китель с золотыми погонами. А потом мы наговорились вволю — сразу за несколько лет. Мы вспоминали, как бесстрашная Женя-патефончик с Дар-горы пела нам песни в подвале Дома грузчика; как немец-толстяк учил нас потоньше срезать кожуру с картошки... Я рассказал Шуре и о том, как босая женщина шла по снегу и фашисты издевались над ней на балконе. Шура задумалась и сказала: — Она жива! Фомина ее фамилия. И Шура много рассказывала мне о своих подругах-разведчицах. Где только не побывала она за войну! За эти годы Шура окончила Военно-юридическую академию. Сейчас она военный прокурор. Однажды, когда мы собрались на традиционный вечер выпускников, Капитолина Ивановна сказала, что в трудное время страна давала нам все, что могла, одного только не хватало — ласки. — Ведь у каждого из нас только две руки, а надо было иметь сотни, чтобы обнять вас всех. Новые воспитанники детдома уже не лезут под стол во время весенней грозы. Много хороших советских людей воспитал наш детдом. Мы многое видели, многое пережили. Недетскими глазами смотрели мы в беспокойное небо. В самый трудный час нас сберегла Родина, и мы будем всегда ее верными сынами и дочерьми. Пусть эти воспоминания о прошлом помогут лучше ценить и беречь настоящее.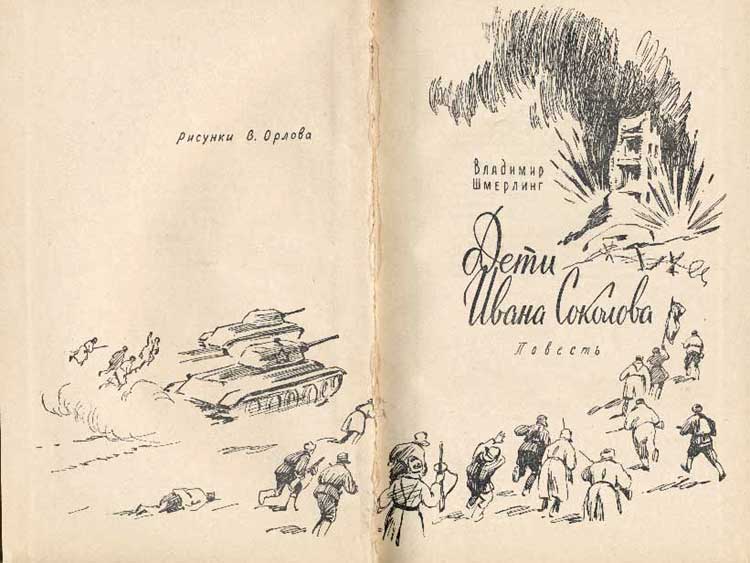
Глава первая
ВСЕ ВМЕСТЕ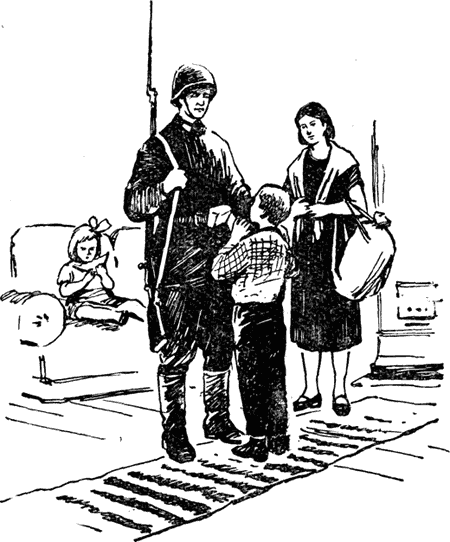
Глава вторая
СОВСЕМ ОДИНГлава третья
Я НЕ ОДИН
Глава четвертая
СРЕДИ РАЗВАЛИН
Закален в бою;
Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю.Глава пятая
ПОДРУГИГлава шестая
СРЕДИ БОЙЦОВГлава седьмая
ОРЛОВ И ЕГО СТЕРЕОТРУБА
На мирные поля.Глава восьмая
ПЕТР ФЕДОТОВИЧ
Глава девятая
ПИСЬМО НА УКРАИНУГлава десятая
ПЕРЕШЛИ ЛИНИЮ ФРОНТА!
Глава одиннадцатая
БАБУШКА И ВНУЧЕКГлава двенадцатая
В ПОДВАЛЕ
Глава тринадцатая
ПО ЗАХВАЧЕННОЙ ЗЕМЛЕ
С нами вместе пускай запоет:
«Кто весел — тот смеется,
Кто хочет — тот добьется,
Кто ищет — тот всегда найдет!»Глава четырнадцатая
ТИШИНА И КАНОНАДАГлава пятнадцатая
ПЯТИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА
Глава шестнадцатая
ПОСЛЕ БИТВЫ
Глава семнадцатая
ТОСКА ГОНИТ
Глава восемнадцатая
В ДЕТСКОМ ПРИЕМНИКЕ
Раздражает немцев дед.Глава девятнадцатая
ПРОВОДЫГлава двадцатая
НА НОВОМ МЕСТЕ
Глава двадцать первая
ПОСЛЕ ГРОЗЫГлава двадцать вторая
ОЛЯ УЛЫБНУЛАСЬ...Глава двадцать третья
СТАРЫЕ И НОВЫЕ ДРУЗЬЯГлава двадцать четвертая
ГОЛУБОЙ ОБЕЛИСКГлава двадцать пятая
ПОЗЫВНЫЕ
Глава двадцать шестая
ГАЛЯ-ГАЛИНА ИВАНОВНАГлава двадцать седьмая
ЛАМПОЧКИГлава двадцать восьмая
МАНЕКЕНГлава двадцать девятая
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Глава тридцатая
ДОБРЫЕ Д НИГлава тридцать первая
ЧАСЫ

Глава тридцать вторая
ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ