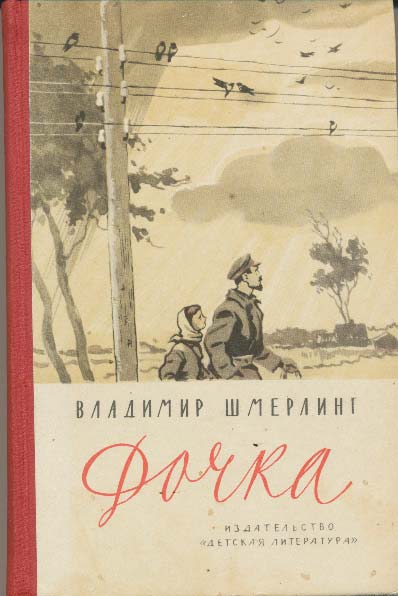 О повести Владимира Шмерлинга
О повести Владимира Шмерлинга«Дочка»
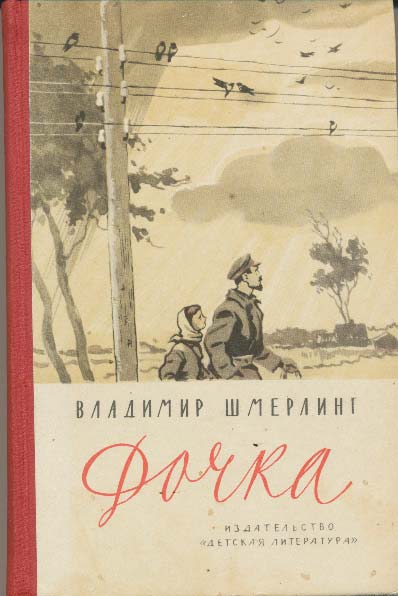 О повести Владимира Шмерлинга
О повести Владимира ШмерлингаБыстролетящее время переворачивает вечно живые страницы истории, озаренные светом Великого Октября.
Нет ничего более волнующего, чем осознавать преемственность поколений, их преданность великим революционным традициям.
Не только первые комсомольцы, по и первые советские пионеры уже достигли возраста, когда вокруг них радостно набирают силы и знания внуки и внучки — сегодняшние пионеры. Им, смело устремленным в будущее, идти по дороге отцов и братьев, вести борьбу за счастье народов, за коммунизм. Для этого необходимы преданность революционному долгу и огромная нравственная стойкость.
Юному читателю нужны книги о том необыкновенном времени, когда крепло и становилось на ноги молодое Советское государство.
В повести Владимира Шмерлинга «Дочка» устами девочки с городской рабочей окраины правдиво и искренне рассказывается о первых годах советской власти.
Галя всегда помнит, как на ее глазах от пули врагов революции погиб на посту ее отец — начальник почты.
Отца нет, но Галя словно идет с ним рука об руку. Отец учит ее, как жить, во что верить, что любить.
Автор, рисуя судьбы своих героев, верно передает колорит времени. Неграмотность, тиф, безработица, детская беспризорность. Но в это суровое время крепла и поднималась наша Родина.
С каким самоотверженным сердцем маленькие харьковчане, мечтавшие о создании детского коммунистического интернационала, оказывали помощь своим братьям и сестрам — детям пролетарской революционной Германии! Это только один из примеров того, как чувство великого интернационализма пронизывало думы и дела тех, кому посчастливилось быть сверстниками первых лет создания нового государства.
В борозды, дерзновенно вспаханные коммунистической партией, кидались семена будущего.
Великие преобразования изменили не только карту Родины и мира, но отразились и в каждой человеческой судьбе, в истории каждой советской семьи. Как много пройдено и сделано, как расширилась жизнь! Об этом надо постоянно помнить и на этом воспитывать.
Пусть в каждом доме люди старшего поколения тоже расскажут своим родным и близким, детям и внукам, всем юным друзьям о неповторимой ранней поре, когда жил и работал Ленин.
Елена Стасова
Член КПСС с 1898 года

Это была немощеная харьковская улица, почти вся в серых деревянных домиках и белых мазанках.
Только немногие дома выделялись своей вместительностью и добротностью. Тоже одноэтажные, они стояли в некотором отдалении, высоко подняв окна над землей. Своими пристройками, флигелями, террасами и конюшнями они напоминали о том времени, когда на месте фабричной окраины шумели помещичьи сады и далеко тянулись выгоны для скота.
Вздорожала земля. Владельцы усадеб разбили и распродали земельные участки. Одни навсегда покинули пригород, другие не пожелали расстаться с насиженным местом.
На Газовой вырабатывали газ для освещения харьковских улиц; пахла сыростью Шерстомойка; поблизости варили мыло и выделывали канаты.
У почерневших заводских стен, рядом с мастерскими и фабриками, начал селиться трудовой люд.
Хибарки окружили дворянские особняки...
Домовладелец Родион Ефимович Клепцов не принадлежал к высокому сословию. Дома свои он получил в приданое, а сам служил старшим приказчиком в галантерейной фирме.
Родион Ефимович был вежлив и галантен. Его жена Екатерина Семеновна, со всеми гордая и надменная, супруга своего нежно называла Родей. А он ее — Котей.
Был у них любимец — рыжий кот Бантик.
Хозяева сдавали нам низенький домик с окнами на улицу (квартира в «полторы» комнаты, зато с русской печью на кухне), а сами жили в глубине двора в кирпичном доме.
Совсем рядом, по длинной улице Москалевке, позванивала конка с белым фонарем впереди. По булыжникам громыхали ломовые подводы, нагруженные бревнами, бочками, железными полосами и листами, чугунными слитками.
На Газовой росла трава, а у заборов крапива. Я собирала молодую крапивку. Мать варила из нее щи.
За домами — на пустырях, заросших кустарником, — протекала извилистая и мелководная Лопань.
В конце Газовой — вдоль Лопани — тянулись длинные кирпичные сараи с закопченными окнами. На белом щите черными буквами было выведено:
«Медно-чугунолитейный завод Н.Ф. фон Дитмара».
На заводе изготовляли рудничные лампы «луч», буры, вагонетки и железные бочки.
В одно и то же время мимо наших окон шли мастеровые.
Про рудничные лампы много слыхала в детстве: с коптилками опасно в шахтах, а рудничные лампы не боятся гремучих газов, предупреждают об опасности, светят и жизнь берегут...
Мне вспоминается время, когда еще царь — самодержавный государь восседал на престоле; в школах учили детей закону божьему, а где-то далеко от Харькова шла война и люди умирали «за веру, царя и отечество».
По Большой Москалевской маршировали солдаты. У казарм, под звуки духового оркестра, матери, обливаясь слезами, провожали сыновей на войну.
На афишной будке расклеивали листки-телеграммы с вестями о войне. Белые листки приносили тревогу. Люди поглядывали на них боязливо; прочтут и молча отходят... Но стоило появиться красным листкам, как все начинали оживленно толковать о победах и радостно поздравлять друг друга.
Листки-телеграммы наклеивали и на телеграфные столбы.
Я знала, что отец мой не на войне, потому что он целыми днями лазит по этим столбам, подвешивает провода. Гудят по ним то белые, то красные телеграммы.
Отец работал на телеграфе линейным надсмотрщиком.
Мать стирала людям белье, крахмалила, гладила. Уложит в картонную коробку и любуется: «Белье-то, как снег!»
На стирку надо было много воды. За водой ходили в «бассейн». Так называлась деревянная будка на Большой Москалевке. За два ведра воды платили полкопейки. Женщина сидела в будке — получала деньги, откручивала кран.
Мать носила на коромысле полные ведра. Меня же за водой посылала неохотно. Надо было переходить рельсы конки, да и о булыжник легко было споткнуться с ведрами.
На одном плече я не могла удержать два ведра — тянули книзу; брала коромысло на оба плеча — вода расплескивалась. Мать всегда говорила: «Не набирай полные, по полведерка принесешь, и за то спасибо». Мне же хотелось все делать, как мама. Она всегда говорила женщине, сидевшей в будке: «Наливай полней!» И я просила об этом.
Приду к «бассейну», дожидаюсь своей очереди, а сама слушаю, как женщины про войну говорят, клянут тяжелое, бедовое время.
Несла воду и останавливалась. Ставила ведра на землю и смотрела, пока вода в них успокоится. Можно дальше нести.
Отец наш был, как тогда говорили, сам-шест.
Когда я появилась на свет, сестры уже бегали в школу. Лена была старше Нилы на один год. Неонила спокойная, молчаливая. Лена же всегда тараторила. Она разговаривала всем лицом, особенно бровями. Рассказывает, а брови ходят то вверх, то вниз.
Посмотрит отец на нее строго, Лена поднимет бровь
и с недоумевающим выражением замолкнет, но ненадолго.
Сестрам было разрешено гулять только вместе и только на нашей улице — от угла до угла. В строго назначенный час — марш домой!
Наступал вечер, и Лена всегда хотела пройтись погулять, постучать каблучками. Она тянула Нилу за рукав, а та медленно произносила одно и то же:
— От-стань!
Неонила помогала матери готовить, стирать; любила до блеска начищать тертым кирпичом самовар. А когда садилась за уроки — совсем утихала.
Лена же весело распевала задачки и правила.
Я усаживалась рядом. Подожму под себя ноги и прислушиваюсь.
Рано начала разбираться в буквах. Буква «А» казалась мне покатой крышей с перекладинкой; букву «Б» называла будочкой...
Брат Сергей был старше меня на пять лет. Он перенял от Лены ее способ готовить уроки. Но распевал не так внятно, как сестра, и я обижалась, когда он начинал бормотать про себя что-то непонятное. Уроки Сергей готовил быстро, легко, превращая их в забавную и занимательную скороговорку.
Он не хвастался пятерками, потому что отец хвалил его только за пятерки с плюсом.
Бывало, «глотает» Сергей уроки, и я тут же. Мне это интересно было. Переспрошу, что не расслышала, а он в ответ рукой отмахивается:
— Еще успеешь!
...Помнится, как вдруг Неонила сказала, что выходит замуж.
Лена радовалась, щебетала и увивалась вокруг сестры.
Жених Алеша был огромного роста, под самый потолок. Когда он приходил к нам, от смущения краснел до ушей. Неонила же краснела от счастья...
Неонила перешла жить к Алеше, в небольшой домик. В палисаднике у них росли старые яблони. Откроешь калитку — раздавался звонок. Я играла с калиткой. Раздавался звонок, и на крыльце появлялась мать Алексея, добродушная, полная, тоже очень высокая. Она угощала меня леденцами и пирогами.
Однажды пришла к нам Нила. Я никогда до этого но видела ее такой: говорила, а сама плакала.
Лена вскочила со стула, схватилась руками за голову; от возмущения у нее раздувались ноздри.
Я запомнила все, что рассказывала Неонила, от первого до последнего слова. Свекровь замучила ее одним постоянным вопросом: «А где твое приданое?» Алексей был единственным сыном, ему не надо было идти на войну, а взял бесприданницу. Свекровь называла мою сестру сиротой несчастной.
Так узнала я, что даже в маленьких домиках живут очень жадные люди.
Алексей не дал Нилу в обиду. Они оставили маленький домик и уехали из Харькова.
К нам на Газовую стали приходить письма издалека.
Мать ворчала на отца за его пристрастие к почтовой службе, а сама увидит на улице почтальона в форменной фуражке — навстречу ему бежит.
Почтальон Лепехин даже нам, маленьким, казался очень маленьким. Должно быть, и усы длинные носил, чтобы его за ребенка не приняли. Завидим огромную сумку «с ногами и головой» и бежим навстречу почтальону. Каждому хотелось получить от него письмо «в собственные руки». Но важные письма с лиловым круглым штемпелем он нам не отдавал, а сам относил в дом.
Мы же ему на разные мотивы, чуть подпрыгивая, с «восточными» ударениями распевали «адрес»:
На Тифлис,
На Кавказ,
На мальчишка первый класс,
На мой сын,
На мой сын,
На мой сын Тарас.
Как ждали все Лепехина! А он жаловался, что всех писем ему не переносить, так много в войну писать стали.
Почтальон приносил вести и о тех, кто уже «отписался».
Лепехин был внимателен к людям. Он сочувственно ловил каждый взгляд. По тому, как у женщин дрожали губы и руки, когда они открывали конверты «оттуда», — все понимал.
Исчезнет он за калиткой соседнего дома, и долго ждешь,
пока загремит щеколда и Лепехин, сросшийся со своей сумкой, снова появится на улице.
Попадет к нам Лепехин, не сразу его мать отпустит. Ведь другие люди из «ведомства» и «конторы» к нам не приходили. Все ему выскажет. И все о том же: о наградных или пасхальных, о том, что отец наш, Степан Митрофанович, перед начальством в три погибели не сгибается и «ваше высокородие» во все горло не орет, за то и достиг самого высокого положения: куда уж выше, когда днем и ночью по столбам лазит!
Лепехин никогда не перебивал маму. Выслушает ее внимательно, головой кивнет на прощание и снова идет по Газовой, разносит судьбу в конвертах из дома в дом.
Летом Неонилины конверты пахли травой, пылью, железнодорожными рельсами, а зимой свежевыпавшим снегом.
Однажды мама послала сестре прядь моих волос, а в ответ Неонила прислала свои. Мать приложила их к моей голове — и они слились, совершенно одинаковые, каштановые...
После отъезда Нилы Лена стала чаще толкать меня в бок, поддразнивать за то, что глаза у меня продолговатые, как щелочки. По утрам она крепко заплетала мне косу и вздыхала, когда наступал вечер.
Но недолго пришлось ей скучать. Лену приняли на службу в посылочную контору, где ей пришлось иметь дело с деньгами.
Отец наставлял ее, чтобы не просчиталась.
Как-то Лена вернулась домой огорченная. Поморщилась, будто съела гнилой орех, и откровенно рассказала, что влетело ей за непочтительность, за то, что осмелилась она повернуться спиной к начальству. Начальник конторы требовал, чтобы подчиненные, выходя из его кабинета, не поворачивались к нему спиной, а пятились назад до самой двери, учтиво раскланиваясь.
Отец не одобрил такую муштру:
— Ничего худого ты не сделала. Только раки назад пятятся!
Но зато Лене досталось и от отца, когда она на первые свои заработанные деньги купила кофточку из прозрачного голубого шифона.
Лене и маме очень понравилась кофточка. Ведь до этого Лена не вылезала из своего единственного темного грубошерстного платья с высоким воротником.
В первое воскресенье она обновила кофточку. А юбка на ней была старая, потертая, перешитая из маминого платья.
...Уехала Нила, и я еще больше привязалась к Сергею, к Лене, потянулась к первой подруге.
Через двор от нас в подвале деревянного дома, осевшего в землю, жили две сестры, Вера и Тося Ефименко.
Сидишь у них, а в оконце все время мелькают ноги прохожих. Сквозь тусклое стекло башмаки, сапоги, туфли казались необыкновенно большими, будто шествовали мимо одни великаны. Мне это было удивительно, Ефименко же привыкли к чужим ногам над головой.
Вера была старшая. Стройная, с длинной, густой косой, она ровно и плавно, неслышно двигалась по комнате.
Тося была обыкновенной худышкой, с узкими плечиками, — шустрая, порывистая, курчавая. Волосы ее вились мелкими колечками.
Их отец, Василь Игнатович, работал мастером на Щетинной фабрике.
Всегда говорили на Газовой: нелегко щетинщикам. Чешут щетину — пыль столбом. Щетина колючая, острые зубцы щетинного гребня калечат пальцы.
Руки у Василь Игнатовича были серые, будто пыль так и въелась во все поры, а вот глаза остались светлыми, голубыми и очень внимательными.
Ворот его рубашки был расстегнут в любую погоду. Ходил он быстро, вприпрыжку, всегда с непокрытой головой.
Мать Веры и Тоси была прикована к постели: то ли ревматизм, то ли еще что, только ноги у нее всегда были прикрыты одеялом. Раньше она тоже трудилась на щетинной — сортировала волос.
В доме хлопотала бабка Наталка — седая, ворчливая, добрая, — мать дяди Василя. Управится бабка по хозяйству, приготовит все и скажет девчонкам:
— Ну, садитесь лохмоты сшивать, а я буду сказку выдумывать.
Мы раздирали всевозможные разноцветные тряпки на тоненькие полоски, сшивали их и вязали из них дорожки.
Все полы у Ефименко были застланы половиками. Бабка требовала, чтобы все, кто к ним приходил, оставляли башмаки у входа.
Одеяла у них в доме были стеганые, тоже из лоскутков.
И я вместе с бабкой Наталкой, Верой и Тосей часами мотала полоски из тряпок в огромные клубки.
Бывало, от долгого сидения затекут ноги, хочется вскочить, а они как деревянные.
— Под коленкой послюнявь, — советовала бабка. Она все видела, даже когда и не отрывала глаз от работы.
С Тосей мы раз двадцать за день ссорились и мирились. Мы пугали друг друга.
— Вот я скажу Вере, она тебе задаст! — говорила Тоська.
— А я скажу Сергею, он твоей Верке всыпет! Разойдемся по домам, а через несколько минут опять
друг к другу тянет.
Тося выходила с куском сахара, а я с сухарем.
— Хочешь? — спрашивала Тоська и по-мальчишески щелкала языком. — Откуси, у тебя зубы крепкие.
— Давай! — брала я сахар, а ей отламывала полсухарика.
Сергей часто вызывал у нас зависть и восхищение. Все извозчичьи пролетки, кареты и экипажи были к его услугам. Самое главное — уцепиться за рессоры, а потом устроиться меж задних колес.
Огреют его кнутом, да мать дома прибавит, но это его не останавливало. Бывало, даже жмурился от удовольствия, когда вспоминал, как подпрыгивала и качалась пролетка на булыжниках.
Мы с Тосей подолгу простаивали в аптеке на Моска-левке, у окна, где красовались два огромных стеклянных шара: красный и синий. Смотришь через такой шар на улицу, а в нем и люди, и дома, и афишная тумба — все вверх ногами опрокинуто.
Мы радовались, когда в шарах появлялась пролетка. Так смешно было смотреть, как крохотная лошадка быстро-быстро перебирала ножками по шару.
Хмыкнем потихоньку в кулак. А что это за фигурка там скрючилась?! Сережку нашего увидела я в шаре. Голова внизу, ноги наверху.
Замахала я ему, закричала!
Тут подошел провизор и нас выгнал.
Не только я, но и другие, кто помладше, тянулись к Сергею. Он любил и умел нас занимать. Усадит всех на длинную скамейку. Совсем маленьких по рукам раздаст. Скамейка изображала вагон конки. Всем хотелось ехать с ребенком. Если малышей не хватало! «пеленали» подушки и даже поленья.
Рассадит Сергей пассажиров, а сам из старой сумки достает маленькие бумажки — билеты.
— Эй, гоните пятаки! Ваших столько-то, — серьезно произносил Сергей и тут же сдавал сдачу.
У самого «кондуктора» от веселья сияли не только глаза, но и ямочка на подбородке.
Все были в восторге, когда «кондуктор» не пускал в вагон перемазанного «пассажира»:
— Трубочистов не сажаем!
Посадка закончена. Сигнал. Вагон трогался в путь...
Сергей единственный у нас в семье был полным, щекастым. Все считали, что он такой потому, что никогда не злился. Мальчишки его дразнили:
Сергей-воробей
На кадушке сидел,
Три лягушки съел,
Четвертую
не доел —
Живот заболел.
Когда мы с Тосей принимались шить куклам, брат спрашивал:
— Почему не на машине?
— А где ее взять?
— Как — где? — удивлялся Сергей. — Ногами стучать надо! Будто колесо вертите.
Мы его слушались. Руками шили, ногами постукивали. И без машины — на машине шили. Придет Сергей, а я прошу его: - Поиграй со мной!
— Поиграем! — сразу соглашался брат. — Я — отец, ты — мать. Готовь обед. Только не забудь на третье мороженое приготовить. Я иду на работу. — Быстро проговорит он все это, и — не успеешь оглянуться, его и след простыл.
А мне не скучно: обед готовлю.
Когда снова появится Сергей, у меня и мороженое готово: обмакнешь кусочек черного хлеба в сладкую воду — мороженое шоколадное, обмакнешь кусочек белого — мороженое сливочное.
Играли, а игрушек не было. Их заменяли «фантики»: пришедшие в негодность горелки и решеточки от керосиновых ламп, ниппели велосипедные, стальные стружки-спиральки, пуговицы с двуглавыми орликами, стрелками, молоточками, светлые пуговицы гимназистов и золотые, офицерские... Но никогда среди этих богатств я не видела ни одной гаечки, ни одного винтика от рудничной лампы.
Играли мы подальше от завода, на дворах или на берегу Лопани, где рыболовы терпеливо ловили редких пескарей.
Весной Лопань разливалась, как подобает реке, омывающей большой город. Мальчишки так и липли к ее берегам.
Помню, как кто-то из них кричал в найденный кусок водосточной трубы:
— Открывается навигация! Пароходство «Лоп-ни»! Для сплавки принимаются старые башмаки, рваные галоши и жестяные банки!
Но только начинало припекать солнце, как Лопань возвращалась на свое коренное, илистое дно. По густой, закисшей воде плыли мазутные узоры.
Как ни запрещали взрослые, а маленькие пловцы взмахами саженок будоражили застоявшуюся воду и вылезали из Лопани в жирных, трудносмываемых пятнах.
Лопань высыхала — тогда прекращался «прием груза» и на пристани пароходства «Лоп-ни».
Больше всего у нас любили играть в цурки. Цурка — самая обыкновенная, короткая палочка, заостренная с обоих концов. Выстругают мальчишки цурку, обведут на земле квадратик — городок. Цурка в городке. Тот, кто начинает, бьет палкой по концу цурки. Подпрыгнула цурка. Вот тут-то и не зевай, отбей подальше.
Хорошо было тому, кто раньше других счет набирал. А последнему «маяться».
Как начнут четверо по очереди одного «маять», отбивают цурку, не дают ей в городок залететь. Тот, кто «мается», пощады не просит, а старается, пыхтит, целится и бросает цурку так, чтобы она летела над самой землей, тогда трудней отбить ее на лету. Но если тот, кто «маялся», поймает рукой отбитую цурку — сразу прекращалась «маета». Не так легко было поймать цурку на лету. Стараешься, да так, что вся голова в ссадинах и шишках.
Ох, и «маяли» же нас мальчишки! А позовут в цурки играть, мы сами летим. Ведь и нам выпадало счастье гонять мальчишек вовсю, пока они не умаются.
С тряпичным мячом гонялись в лапту.
Мальчишки мастерили из палок ружья. К концу палки привязывали «ремни» из бечевок. Вместо приклада — деревяшка, а курок — из гвоздя. Иной вскинет руку на плечо — и шагает, как на параде!
На всю нашу улицу был единственный трехколесный велосипед. Им обладал Мишка, сын лавочника.
Бывало, просят его ребята: - Дай покататься!
А он за это две копейки требует. У него, как и у извозчиков, была своя такса. За две копейки можно было прокатиться от бакалейной лавки до круглой афишной тумбы на углу и обратно.
Хочешь взгромоздиться на велосипед — припасай монету! Кто из копилки доставал, кто на конке экономил.
Некоторые сядут и начинают что есть силы крутить ногами, да так, чтобы поднять за велосипедом облако пыли.
Я каталась медленно, еле нажимая на педали.
Мишка подгонял меня вначале сердитым взглядом, а потом и криком. Но я будто и не слышу. Ведь не за спасибо же, а за деньги!
Однажды Мишка сказал:
— Разрешу покататься только за три щелчка в нос.
Чего захотел! Мы обступили Мишку и давай его щелкать и в нос, и в лоб, и в подбородок.
Он разревелся, а мы разбежались — как бы от лавочника не влетело.
Все это видели прильнувшие к окнам просторного и светлого особняка сестры-близнецы: Маргарита и Лариса.
Нет! Не пожалуются бакалейщику. Так насмешливо смотрели сестры на Мишку, что, должно быть, тоже с удовольствием дали бы ему щелчка.
А вдруг посочувствовали? Кто их знает! Уж очень молчаливы и аккуратно причесаны. Все у них одинаковое. И платья, и банты в косах, и сережки в ушах. Поди разберись: кто из них Маргарита, а кто Лариса? С нами они не играли. Их отец, горнопромышленник Аничкин, владел на Донбассе антрацитовыми рудниками.
Самого Аничкина мы видели редко. Это был важный мужчина. Жесткий, накрахмаленный воротник подпирал ему подбородок. Стоячие усы тоже казались накрахмаленными.
А на жену его все засматривались. Бывало, наденет платье то из черного атласа с высоким воротником, то розовое с вырезом и в кружевах. Ни на кого не смотрит. На руках длинные перчатки, держит веер или белый, тоже в кружевах, зонтик. А шляпа — корзина с цветами!
Мне очень хотелось узнать, как живут Аничкины в своем особняке. Говорили, что у них все по-другому. У нас — печи, у них — камины в каких-то изразцах с узорами.
Однажды в особняке началась уборка. Занавески и шторы не скрывали возню. Все окна настежь. Полотеры, заложив руки за спину, с непостижимой быстротой носились по паркету.
Меня заворожила волшебная люстра на круглом столике, придвинутом к стене. Чуть покачивались прозрачные граненые стеклышки. Полотеры посматривали на них с опаской.
«Волшебница» притягивала к себе солнечные лучи и щедро разбрасывала их по огромной зале с высоким потолком. Блестели стены, обтянутые светлым шелком. Сверкающие блики слепили глаза.
Как бы не споткнулись полотеры...
Потом я узнала от сестер, что поразившая меня «волшебница» — хрустальные канделябры для свечей. Свечи зажигают, когда у Аничкиных собираются гости.
А на рудниках днем и ночью тускло мигают в полумраке лампы «Луч» с Газовой.
Как-то Тоська Ефименко на барском тротуаре бегала с колесом. Случалось нам и раньше сбивать прохожих, а тут колесо угодило прямо в ноги жене горнопромышленника, у самого подъезда ее дома. Она громко ахнула, подобрала сборки шуршащей юбки и скрылась в дверях... Тося
так испугалась, что присела и рот раскрыла. Так они ничего не сказали друг другу.
Узнала об этом бабка Наталка и заворчала, сначала на Аничкину, будто это она была во всем виновата:
— Живут, как маки цветут. Не смотрели бы мои глаза. Они богатые, бессовестные, прижимистые. На чужой спине ездят.
Сказала так бабка и тут же потребовала, чтобы Тоська попросила у барыни извинения.
Подруга моя в ответ только языком щелкнула.
...Я хорошо знала, что живем мы «от двадцатого до двадцатого».
Приближалось двадцатое, и мать перед получкой отца брала в бакалейной лавке в долг. Все чаще и чаще ругала она папино ведомство:
— Голь почтово-телеграфная. В полиции на содержание казенной собаки и то больше положено, чем вам платят. Грузят на вас, как на ломовую лошадь.
— Да успокойся, Маруся! — скажет отец. Тут-то мать и приходила в неистовство:
— Тридцать лет ждали прибавки. Дождались. Благодарственное моление отслужили. А купцы-живоглоты тоже прибавили. Все дорожает с каждым днем. Вшили вам канты синие, а вы от нужды посинели. Бакалейщик уже в дверь не проходит. А ваше жалованье не раздувает, а кости собирает — все пятером в одну дверь пройдем.
— Вот и хорошо, Маруся, — скажет отец.
Или возьмет гитару и споет вполголоса куплет из своего «репертуара»:
Эх, судьба ты почтовая, Служба, вычет и нужда, Точно крышка гробовая, Тяжела ты, тяжела!
Приходило двадцатое, отец приносил жалованье, гостинцы-сласти и снова спешил на дежурство.
...Когда наступало ненастье, мать тревожилась за отца и с нетерпением ждала его возвращения.
Однажды опоясался он. Полез на столб. Перекинул металлическую цепочку, прикрепленную к поясу, через плечо, а застегнуть ее на крючок забыл. Только откинулся, чтобы не касаться лицом проводов, как полетел затылком вниз. Падая, каким-то образом удержался «кошками» за столб. Ноги в когтях наверху — голова внизу. Отец хотел вывернуться, схватиться руками за столб и слезть, но как ни барахтался, ничего у него не выходило.
В это время женщина гнала корову, увидела — человек головой вниз висит, подняла крик, сбежались люди и сняли отца со столба...
Подморозит после дождя. Провода покрываются ледяной коркой. Обвисают, вытягиваются, рвутся. Во время гололедицы под тяжестью льда накреняются, ломаются и падают столбы.
Отцу самая работа. Лазает по столбам, устраняет обрывы, отбивает топориком лед.
Как-то в непогоду, когда на дворе было особенно дурно и мать была довольна, что отец дома, не под открытым небом, за ним вдруг пришли и привезли с собой все снаряжение.
Мать долго искала фуфайку, а Сергей тем временем в сенях начал примерять когти. И мне это интересно было. Шипы на них острые! Сергей привязал ремешками когти к ступням. Высоко поднял ноги. Сделал шаг и тут же шлепнулся. Оставил когти и начал примерять плотный, тесьмяный поясной ремень. Он обкрутил его вокруг себя, застегнул металлическую пряжку и начал дергать цепочку, прикрепленную к поясу.
— Эх, мне бы на столб забраться!
Сергей возился с поясом, а я залезла в инструментальную сумку. Сверху там лежали наушники. Только я их надела на голову, как в дверях показался отец.
— И смех и грех! — воскликнула мама.
Отец щелкнул пальцем над моим ухом, снял наушни-ки, помог Сергею освободиться от пояса, подтолкнул нас к маме, а сам исчез в дверях.
Мать только успела крикнуть ему вдогонку:
— Следи за поясом!
...Подходило еще одно «двадцатое», и мать начинала все о том же:
— Эх вы, чины — пуговицы ясные, а жизнь темная. На фуражке кокарда, а штаны протертые, в заплатах; штиблеты под стул прячете — людей совестно. Живем на крохи. Деньги казенные, а служба каторжная...
Да, перед «двадцатым» не раз начинались, как Сергей говорил, «комбинации» с желудком. Хочется есть, а мать скажет сердито:
— Нечего керосин даром жечь. Ложись спать скорей, во сне поешь.
Только начнешь засыпать, а Сергей сахар протягивает. У него всегда про запас несколько кусочков водилось. Недаром он фокусы показывал...
Бывало, именно перед «двадцатым» числом между отцом и матерью пробегала «черная кошка».
Отец сидит за столом. Опустит свою небольшую темную бородку на грудь. Под глазами набрякшие мешки. Лоб наморщит.
И мать не в духе, ходит из угла в угол, с места на место все переставляет. И мне не по себе.
Один раз отец как-то с сердцем сказал маме:
— Да не кори ты! — и закрыл лицо руками.
Зато я знала: пройдет «двадцатое число», мать выстирает, накрахмалит отцу рубашку и заботливо положит ее перед ним, такую белую, свежую... Или подойдет к нему сзади и воткнет ему в волосы свою гребенку...
И мне хорошо.
Вечер. Гудит под трубой самовар. Чай налит до самых краев — отцу в стакан, нам в чашки. Старшие пьют чай вприкуску. А я с Сергеем внакладку. Мать режет яблоко в чай. И голос у нее уже не пронзительный, а мягкий:
— Застенчивый ты, Степушка, до ушей краснеешь. Стеснительный.
И мне говорили, что я все больше и больше похожу на отца. Тоже густая краска часто выступала на лицо... Я не соглашалась: и щеки у меня не впалые, и усов и бородки пет.
Должно быть, и на маму похожа. Руки у нее сильные. Работа не томила ее. Как скажет: «Воздухом сыт не будешь!» — засучит рукава, начнет пол мыть... Под кровать с выжатой тряпкой я лезла.
И все это, пока вода закипает для стирки.
Когда мать стирала, она не любила, чтобы около нее вертелись. Мокрые груды чужого белья лежали на скамейке.
А вот на веревку развешивала, — станет на табуретку, я ей белье подавала.
Только и ждала, когда оно высохнет и мать позовет:
— Ну, Галонька, давай вместе утюг раздувать.
Утюг большой, духовой, с деревянной ручкой. Нагревался древесными угольками, разжигался щепками. Прогорит пламя, вот тут-то я и дула вовсю — в дырочки с боков утюга. Угольки покраснеют, утюг жаром пышет!
Мать только успевала гладить. Утюг быстро мелькал в ее руках, и угольки не гасли.
Растет горка выглаженного белья...
Мать утюгом размахивает, мокрым пальцем до него дотрагивается: шипит!
...Помню, отец как-то задержал нашего хозяина Родю во дворе, чтобы за квартиру с ним рассчитаться.
Родя схватил деньги, пересчитал, сунул в карман, а потом начал говорить, что он скоро свой собственный галантерейный магазин откроет.
— Придется и вам за квартиру набавить. Всем набавлю. У нас цены без запроса, — рассмеялся Родя.
Отец замялся, вздохнул. А Родя размечтался:
— Дело мне предстоит большое. Фирма Клепцова! Звучит? Как вам кажется? Вывеску живописцам закажу!
— Крыша-то протекает, — перебил его отец.
— Протекает? — подхватил Родя. — Хорошо, что сказали. Это все из-за липы. Липа у крыльца разрослась. С липы на крышу стекает. Давно надо липу спилить.
Отец и не рад был, что упомянул о крыше. Очень он любил тенистую липу.
Через день-два Родя спилил липу.
У крыльца стало пусто, а в комнате жарче и неуютней.
...Напротив наших окон, чуть наискосок, в кирпичном доме, жила вдова, генеральша Желтикова.
Все было там по-генеральски. На нашей стороне вместо тротуара — прогнившие, протоптанные доски, а у дома генеральши — ровно пригнанные друг к другу квадратные каменные плиты с узорами.
Донашивала я ботинки Неонилы. Говорили мне: «Пока этих не сносишь, других не купим». Все отдавали в починку. Как мне хотелось их сносить! Потому я с особой охотой прыгала у генеральского дома.
«Классы» на плитах у дома генеральши мы не рисовали, а потихоньку прыгали на одной ноге из квадрата в квадрат.
Как-то, когда я прыгала под окнами генеральши, она позвала меня к себе. Вошла я и подумала: «Как в церкви!» Потолки разукрашены. Столик весь усыпан перламутром. Пальмы в кадках стоят... Больше всего меня поразило — сидит генеральша, такая дородная, в кресле-качалке и качается, как на качелях.
Она позвала меня мороженое крутить. Зажала я ведерко коленями. Кручу, а сама все разглядываю. Я кручу, а генеральша качается. Потом она покрутила, а меня усадила в качалку.
Эх, думала я, это не на пролетке. Мальчишки бы на такой качалке вскачь понеслись, а я покачивалась в такт маятнику огромных часов, стоявших на полу, как башня. Снова мы с генеральшей поменялись местами. Я крутила, крутила и засмотрелась на картинку. Но помню, висела ли она на стене, или это на столе лежал раскрытый иллюстрированный журнал, но словно сейчас вижу перед собой внушительного военного на огромном коне среди поверженных в прах немцев.
Желтикова, заметив, как внимательно смотрю я на картинку, приподнялась с качалки, поправила иа голове кружево и важно произнесла:
— Великий князь Николай Николаевич! А я подумала: «Наверное, это и есть сам Желтиков». На террасе, выходившей в сад, генеральша угощала меня мороженым. Я боялась уронить блюдечко. ...Осенью 1916 года я пошла в школу. Меня приняли в приготовительный класс. В зале еще висел портрет Николая II, щуплый такой царь. А окончила я первый класс — царя уже не было, и портрет выбросили.
Как отец повел меня в школу в новом белом переднике, в форме на вырост, хорошо помню. А вот как свергли самодержавие...
Дело было зимой. Отец пришел такой радостный — принес телеграмму с текстом отречения Николая II. Сергей кричал:
— Николашка полетел вверх тормашкой! Мы прыгали, целовались.
Отец повел нас к зданию Центральной телеграфной конторы «смотреть революцию». Он говорил:
— Еще вчера здесь на балконе висел огромный позолоченный царский вензель. Квартальный следил, чтобы перед вензелем шапку снимали. «А не то в кутузку!»
Потом мы гуляли по Сумской, как в самую раннюю пасху. По мостовой с громкими песнями маршировали солдаты. Рота за ротой. Несли плакаты и лозунги. Слово «свобода» сияло не только на кумаче, но и на лицах. Будто все в один день именинники и пришли в гости поздравлять друг друга.
Повсюду продавались красные банты.
— Купи мне бант! — попросила я отца.
Он купил мне два.
Нам повстречался Родя. Он шел и играл тросточкой. За ним еле поспевала чинная Котя с торжественной миной на лице и меховой горжеткой на шее.
Родя умильно улыбался.
Ура! Царя сбросили! Шабаш! — кричали с балкона.
На тротуаре прохожие обступили арестованного полицейского.
Отец привел нас в кондитерскую «Жорж Борман» и купил нам кулек конфет. Мы уплетали их за обе щеки.
...Я и до школы умела читать — сама научилась, глядя на брата и сестер. После приготовительного же стала совсем грамотной. Прыгала, в горелки носилась, но пристрастилась и к чтению. А книг-то и не было.
Бывало, Маргарита Аничкина в одном окне сидит — книжку читает, а Лариса — в другом. Книжки с картинками! Очень хотелось мне до этих книжек добраться.
Как-то осмелела я, стала просить сестричек дать мне почитать одну из этих книжек. Взамен я одарила их цветными стекляшками. Даже па волшебных канделябрах не было таких среди подвесков. Собирали мы с Тосей полные подолы всевозможных стеклышек. Среди них попадались особенно редкостные, с переливами и надписями. Зажмуришь один глаз, а другим посмотришь в стеклышко на тополь, и кажется он волшебным: двоится, множится, переливается...
Хоть и не было у сестер своего «прейскуранта», как у Мишки-велосипедиста, а дали мне, через окно, книгу в коленкоровом переплете с золотым обрезом. Картинок много, и все яркие!
Я со стола убрала, пол веником вымела, только после этого уселась читать.
Сели мы с Тосей на одну табуретку, тесно прижавшись пруг к другу, и книжкой вроде как поделились, задумали вместе читать, но про себя. Тося не поспевала за мной. Она поднялась, стала сзади, обняла меня, положив голову мне на плечо, картинку разглядывает, а меня попросила вслух читать.
Читала я медленно и громко. Смотрю, и мать в дверях стоит. В комнату белый пар от корыта напустила, даже стены и окна вспотели, передником руки вытирает, а потом села рядом и тоже стала слушать...
Дружили мы с Тосей, но однажды подрались по-настоящему. Выпросила она у меня книжку — «Сказки братьев Гримм» — только на один вечер, а принесла на следующее утро испачканную. Как увидела я пятно на обложке, разозлилась на Тоську:
— Кто посадил?
А она будто и не видит:
— Так было.
— Как — было?!
— Сама испачкала, а ко мне пристаешь.
— Вот ты какая! — И я крепко сдавила Тоськину руку.
— Ой, сломаешь! — закричала Тоська и сдернула с моей головы косынку.
Я схватила ее за платье и потянула. Тоськино платье, ситцевое, в розочках, треснуло как лоскут... Тоська в слезы. Мне жалко и ее, и платье, и книжку.
Не умеем мы, девчонки, как следует драться. Другое дело — мальчишки, и бьют наотмашь, и в грудь норовят ударить, и подножкой свалить. Мы же не деремся, а царапаемся.
Можно было царапать друг другу щеки, тянуть за волосы, но платье!
— Пойдем в дом, зашьем.
— Все равно бабка увидит.
Рассказали мы маме о нашей беде. Она заложила складочку и застрочила разорванное место на машине.
Пятно на книге утюгом через полотенце прогладили...
Я вернула книгу; сестры Аничкины и не взглянули на «Сказки братьев Гримм». У них полные шкафы книг.
Бабка Наталка много сказок знала, и все они были У нее складные, но на один лад. А книги такие разные!
Иногда и книжки были похожи друг на друга, как сестры-близнецы, особенно книжки о примерных девочках. Как-то я увидела на обложке замечательное название: «Девочка — Робинзон». Помню, как не терпелось мне узнать, что это за Робинзон. И как завидовала я такой девчонке! А начала читать — чепуха! Приснилось одной плаксе, что попала она на необитаемый остров, где грибы росли с котел, а воробьи больше курицы. Испугалась девчонка. С ней вместе был мальчик Сережа. Он все за нее делал. Нашел корзинку. Сели они в эту корзинку, подвешенную к воздушному шару, — и снова очутились дома.
Нет, эта девочка не была Робинзоном.
Когда сестрам-близнецам надоели мои разноцветные дары, я стала им приносить черно-красных, цветистых и темнобархатных бабочек, самых пышных. Ловила их рукой на пустыре.
Принесу от Аничкиных новую книжку, Сергей из рук вырывает, потом посмотрит и скажет разочарованно: «Для девчонок».
Только как-то раз взял книгу да и не выпустил из рук, пока не дочитал. Прочитал, потянулся, а мне говорит:
— Если еще такую же книгу принесешь, я тебя на спине верхом покатаю. — И Сережа заржал, как конь.
Книга, от которой он не мог оторваться, называлась «Всадник без головы».
В особняк Аничкиным провели телефон. Его пронзительный звонок был далеко слышен. Раздавался и певучий голос хозяйки дома:
— Да! Да! Алло... это я, я, Софа!
Как-то телефон долго подзывал к себе, а никто не подходил. Как мне хотелось проникнуть в особняк, поднять телефонную трубку и ответить:
— Да, да! Алло... я, я, Галя!
Позвонить бы отцу. Повертеть рукоятку. Приложить ухо. Снова повертеть. Наговориться и опять повертеть.
Однажды, проходя мимо, я услыхала голос самого Аничкина. Долетали отдельные сердитые слова.
А через несколько дней после этого отец принес газету и ткнул пальцем в портрет мужчины, надутого как лягушка.
— Узнаете? Аничкин! Чугуно-меднолитейный, котельный, каменноугольный воротила. Речь на съезде харьковских промышленников и фабрикантов произнес.
Отец читал эту речь и гневно поглядывал в сторону особняка.
— Набили на войне тугую мошну. Этот Аничкин в армию шрапнельные снаряды поставляет. Теперь малолетних подростков вербуют в окопы воевать с немцами до победного конца. Самого бы отправить траншеи копать!
— Царя свергли, а все осталось по-прежнему. Народ измучили, — со вздохом промолвила мама.
А я невольно прислушалась: не зазвонил ли в особняке телефон. Теперь я знала, о чем говорил Аничкин.
...В те дни часто устраивались митинги. Сергей протискивался в первые ряды. Особенно понравились и запомнились ему слова: «Долой десять министров-капиталистов!» Он громко произносил их, когда бил по цурке, выбивая ее из «городка», — так громко, чтобы услышал Родя.
Как-то увидел Сергей — девчонки, ученицы из шляпной мастерской, спешат к особняку, тащат круглые картонные коробки. Аничкина постоянно заказывала шляпы и шляпки. Сергей поспешил наперерез ученицам. Они остановились, прижимая к себе коробки.
— Восемь часов для труда, восемь для сна, восемь свободных! — выпалил Сергей.
Начало заинтересовало шляпниц.
— Подростки должны работать шесть часов, а получать как за полный восьмичасовой, — продолжал Сергей.— Нечего шляпы на дом носить и трудиться на дядю! — громко кричал он.
— Что это малый так разорался? — неожиданно раздался недружелюбный голос.
Это Екатерина Семеновна Клепцова, вся напружиненная, наблюдала, как «митинговал» Сергей; возразить не возразила, а все-таки не удержалась и заступилась за «дядю».
Ученицы весело подмигнули Сергею и шмыгнули к подъезду.
Самым главным из министров был Керенский. Помню, что деньги «керенки» были рыжие, небольшого размера, но печатали их целыми листами и разрезали ножницами на длинные полосы.
При Керенском дела Клепцова пошли в гору. Текли к нему «керенки».
Помню, как сидели мы на заборе и, стараясь не шу-
меть, чтобы не привлекать прохожих, пускали мыльные пузыри прямо на улицу, наблюдая за их полетом. День был тихий, безветренный. Мыльные пузыри, меняя свои краски, долго держались в воздухе.
Наш хозяин приближался к дому. В руках его, как всегда, большие пакеты. Идет и чуть пританцовывает, пританцовывает и посвистывает. Пенсне на цепочке болтается.
Вдруг рыжий кот Бантик прыгнул прямо к ногам Роди. Хозяин от неожиданности растянулся на животе, придавив собой пакеты. Бумага лопнула, по земле рассыпались кнопки, крючки, маленькие ножницы, разноцветные мотки гаруса...
Родя вспотел и заторопился. На коленях, кряхтя, он начал сгребать вывалившуюся галантерею.
В это время Тося громко и радостно крикнула:
— Пузырь лопнул!
В России установилась советская власть, а на Украине еще шли бои за Великий Октябрь.
На Москалевке красногвардейцы дрались с юнкерами. Стреляли где-то совсем близко. Над крышей нашего дома жужжали пули, а стекла в окнах: дзинь-дзинь!
В памяти возникает тревожное лицо мамы, какой-то грохот и слово «товарищ».
В это небывало бурное, пламенное время мы, детвора, как положено в декабрьские дни, носились на санках-скороходах с накатанного спуска — прямо на лед Лопани.
Санки мастерили сами. На них надо было ложиться животом. Спереди на палке два конька, а сзади один -«снегурочка». Лежишь на животе и передними коньками управляешь. Ногами притормаживаешь. Руками руль сжимаешь, как бы не выпустить. Полный ход! Со страшной быстротой, как вихрь, неслись мы в Лопань, вздымая снежную пыль.
Помню: с шумом и грохотом промчался броневик с матросами наверху. Как на школьной грифельной доске на нем было выведено мелом: «Бей буржуев!»
Повсюду над городом взвились победные алые флаги. Сергей несколько часов простоял у наспех сколоченной трибуны, продрог, а жадно ловил каждое слово. Дома он старался как можно точнее передать все, что слышал. Мысли обгоняли слова, он начинал торопиться и переходил на жесты.
Сергей рассказал, что большевики тоже за войну до победного конца, по не с немцами, а с капиталом.
Отец говорил о важных телеграммах. Тогда от него я впервые услыхала: «Ленин». Обращения Ленина! Рабоче-крестьянское правительство во главе с товарищем Лениным!
Сестра приходила позже всех, бледная, усталая, с воспаленными глазами. Многие ее сослуживцы самовольно оставили почту, спрятались, как мыши...
Первый почтовый поезд доставил письма из центра.
На почте корреспонденцию разбирали красногвардейцы. Отец стал работать телеграфистом. Не раз по ночам подымали отца его друзья-красногвардейцы. Знали мы, что на телеграф приходил товарищ Артем, разговаривал с Кремлем по прямому проводу. Отец наклеил весь разговор на бумагу и отнес товарищу Артему в вагон, стоявший на путях у вокзала.
Сергей всегда с нетерпением ждал отца, обо всем его расспрашивал. Отец говорил, что и на телеграфе почтово-телеграфные пролетарии не на жизнь, а на смерть борются с прислужниками палачей.
Когда отец ложился спать, он клал под подушку револьвер.
Забежит днем на минуту, перехватит что-нибудь на ходу и снова на сутки уходит туда, где у него новое начальство, имя которому: Ревкомпочтель! И мать с уважением относилась к этому неведомому нам, но такому бесстрашному Ревкомпочтелю.
Однажды, когда отец долго не приходил с дежурства, мы с мамой, захватив еду, пошли к нему на Центральный телеграф. Заглянули в огромный зал. Меня оглушил непривычный стук. Будто метались здесь, стрекотали и щелкали кузнечики и сверчки из железа. Люди работали как заведенные. Стучали пальцы по клавишам аппаратов. Никто из них на нас не обернулся.
Отсюда по многим и многим проводам разбегались телеграммы; сюда же с шумом и треском врывались они со всего света.
Мать разыскала отца в малой аппаратной. В малой было потише. Даже кто-то обернулся и спросил, как меня зовут, сколько мне лет.
Меня удивили там колеса с белой лентой, вертевшиеся у аппаратов.
Отец что-то мастерил у одного из аппаратов. Он поднялся нам навстречу и, улыбаясь, показал свои руки, перемазанные краской. Сказал, что вернется домой, как только его сменят. Есть не стал, а пошел нас провожать к выходу. По дороге рассказал, что сейчас под его присмотром много линий, много аппаратов; среди них и те, что оглушили меня в большой аппаратной, — громадные Юзы и Бодо.
...Лучше всего запомнилось все, что глаза повидали «от угла до угла».
Наш хозяин Родя и генеральша Желтикова были для меня, как живые игрушки ваньки-встаньки: то закачаются, наклонятся, то опять становятся на ноги. Недаром Желтикова Мария Ивановна так любила качаться на качалке.
Все знали на Газовой, что генеральша не рада победе советской власти: она ведь лишилась потомственных владений, в банке у нее «лопнули» какие-то вклады и ценные бумаги.
Теперь мать ей только стирала, а гладила белье генеральша сама, чтобы дешевле было. Я помню эту глажку: возьмет ее высокопревосходительство стопку белья, положит на стул, а сама сверху сядет. Придавит белье своим широчайшим задом, долго сидит так, как квочка. Зато потом она хвасталась, что простыни у нее из-под такого пресса — не хуже чем из-под утюга.
Окна в особняке, со стороны фасада, были занавешены плотной материей.
Когда в городе в одну ночь арестовали всех крупных фабрикантов, пришли и за Аничкиным. Говорили, что, если к утру внесут они два миллиона, их отпустят.
Сергей видел, как Аничкин в черном пальто, придерживая рукой поднятый воротник, медленно шел по Газовой. К себе пришел черным ходом. Он уже не владел рудниками, не торговал шрапнельными стаканами, но, как и прежде, держался барином в ожидании перемен.
...Весна 1918 года. Мне исполнилось девять, и это был тревожный день рождения, будто дома кто-то тяжело заболел.
По сговору с украинской буржуазией войска кайзеровской Германии вторглись на Украину. Храбро дрались красноармейцы, защищая Харьков, а теперь уходили, чтобы победить и вернуться.
Рабочие-добровольцы с нашей окраины получали винтовки и шли на фронт.
Сережка ходил по комнате, сжимая кулаки.
...Не успели мы вволю наиграться на тротуаре у генеральского дома.
Выхоленная рука в блестящих кольцах распахнула окна особняка: не все богатства растаяли, а то, что взяли большевики, обратно отдадут немцы. В одном окне Маргарита, в другом — Лариса. Книг я у них больше не брала.
...Вот они, захватчики, на весенней Москалевке, совсем не похожие на «поверженных» с картины, висевшей у Желтиковой.
Впереди на огромном вороном коне не великий князь, а немец в черной каске с острым шишаком. Грудь колесом. Блестят пуговицы на мундире. За ним и все войско.
Они шли под черно-бело-красным германским флагом, отбивая шаг тяжелыми сапогами.
Вовсю светит солнце. Гремит марш...
Какой-то грузный мужчина, скрестив руки на животе, низко поклонился вильгельмовскому генералу, а пышная красавица с туго завинченными локонами протянула ему хлеб-соль на вышитом полотенце.
Господа в котелках и разнаряженные дамы с перьями на шляпах лезли вперед, старательно выговаривая: «Гутен таг!» Услужливо и угодливо они расстилали перед пришельцами ковры, дорожки и одеяла.
Мы, детишки, взирали на это зрелище с разинутыми ртами. Мне не пришлось изучать немецкий язык, но я запомнила несколько уроков этого языка, которые преподали нам тогда «герр сольдаты».
Лучше всего мы научились картавить «по-немецки». Так и разговаривали на «картавом языке»: «Майн матке-ши дома нихт», «Отшень, отшень хорош», «Гут, гут, кнут, кнут». Ни один переводчик не разберется.
Всю ночь на нашей улице ходили немецкие патрули. Проснешься и слышишь, как они между собой «каркают» и «кудахчут». У заводских ворот фон Дитмара тоже стояли фон часовые в серо-пепельных мундирах.
Мимо нас — на крупных лошадях с куцыми хвостами— медленно проезжали по Газовой стражники-гайдамаки. Чудно они выглядели: голову брили, а на макушке оставляли длинный клок — «оселедец». На бритые головы на-хлобучивали меховые папахи со свисающим суконным верхом, напоминавшим колпак. В синих поддевках — жупанах и в синих широких шароварах, спускавшихся на голенища сапог, они казались какими-то поддельными и очень чужими людьми.
Мы знали, что хотя они и украинцы, а стоят за кайзера Вильгельма, за помещиков, за царя. Только «царь» у них называется гетманом. А у гетмана фамилия Скоропадский, потому что он, как царь Николашка, должен скоро пасть!
Все новости приносил Сергей: в городе на крыше «Гранд-отеля» установили орудия; на заводах станки с фундаментов снимают; немецкие офицеры сигары курят.
Мать боялась за Сергея, так как прошел слух, что пруссаки всех подростков угонят к себе в Германию на каторгу.
Когда в Харькове были немцы и гетманцы, отец ходил по городу, не расставаясь с когтями-кошками, подпоясанный широким предохранительным ремнем. На голову он нахлобучивал старую фуражку с заношенным бархатным околышем. Человека «с кошками» даже патрули не останавливали.
Встанешь утром, а мать говорит: «Ты и не слыхала, как отец тебя ночью в лобик поцеловал». И так хотелось после этого видеть отца, быть с ним рядом...
При немцах зашевелились лавочники, проходимцы и биржевики. Поднял голову и Родя. Он стал часто захаживать к нам, и в самое разное время.
Мать сразу разгадала: следит Клепцов за своими квартирантами. То нужно ему что-то сообщить по секрету, то надо ему проверить, как форточка закрывается...
Форточкой хлопает и говорит:
— Сам Вильгельм сказал, что Россия — это страна, где ни один винтик как следует не завинчивается.
И смеется. Зубы редкие. Волосы намаслены и тщательно зачесаны. Волосок к волоску. Маленькие усики он подкрашивал чем-то черным. Вот и пойми — согласен наш домовладелец с Вильгельмом или нет? Сергей принес с улицы новый куплет:
Украина хлебородная —
Немцам хлеб отдала,
Сама голодная.
Я слыхала, как и Родя пел то же самое и ухмылялся.
Как-то пришел Родя и рассказал, что большевики пустили под откос поезд с углем для Германии. Говорил об этом так, будто грозил маме: мол, хотя наш отец и телеграфист, но это дело и его рук; будто и мать виновата в том, что она законная супруга человека, который при большевиках ходил с револьвером на боку.
Как-то раз в эти дни Сергей вернулся домой с пшеницей. Карманы набил, и за пазухой полно. Весь превратился в мешок.
Рассказал, что мальчишки пробрались под вагоны, просверлили дырки, заткнули их, а когда тронулся состав, затычки повыскочили и весь путь в золотом, отборном зерне.
Ругала, ругала мать Сергея, а пшеницу спрятала на черный день, но тут же строго-настрого приказала ему, чтобы он и не думал даже близко подходить к полотну железной дороги.
Сергей чуть свет поднялся, и поминай как звали... Мать велела мне искать его по дворам. Где его найдешь? Может быть, он где-нибудь со своими друзьями «гоголь-моголь» крутит — ведь говорили же, что немцы грузят в вагоны и яйца и сахар.
Чего только мать не передумала! Уж представилось ей, как немцы поймали сына и вместе с пшеницей да со скотом везут в вагоне с решетками на германскую каторгу... Сергей появился на пороге среди дня. Мать даже руками всплеснула:
— Снимай штаны, мерзавец, бить буду!
Только тут и увидела, что стоит Сергей в необычном виде. Колени его были прикрыты рубашкой с чужого плеча, а сам он босый и без штанов.
— Штанов-то нет, — говорит Сергей. — Украли всю одежу, пока купался.
Мать закричала еще пуще, схватила палку.
— Не бей его, мамочка! — вступилась я за брата.
Несколько дней после этого Сергей сидел дома «на привязи», без штанов. Мать решила: нет худа без добра, иначе его ни на каких вожжах не удержишь.
И все же, помню, пришла я домой, смотрю, Сергей платок ко лбу прижимает, а мать в слезах.
Оказывается, только она куда-то ушла, он полез за отцовскими штанами. Лежали такие в сундуке — узкие, с кантом, от почтово-телеграфной формы.
Сергей уцепился за штаны. Мать за ним вокруг стола бегала. Не помня себя, ударила его чем-то, что попало под руку. На всю жизнь у Сергея на левой брови остался малоприметный шрамик.
Уже после второй мировой войны — с германскими фашистами, когда погибла наша мать в Харькове, — нащупал мой брат этот шрамик и с такой любовью сказал:
— Мама наша! Как ей трудно жилось, как мало мы ее жалели, как много причиняли хлопот...
А тогда в ноябре 1918 года в Германии свергли Вильгельма. Побежали немецкие солдаты домой.
Музыка не играла. Никто не вышел на улицу их провожать.
И гайдамаков след простыл, будто их никогда и не было.
Дул ноябрьский ветер, кружил опавшие листья и обрывки бумаг. И опять стекла дрожали...
Мать с опаской поглядывала то в окно, то на дверь. Наконец дождались отца. Он рассказал, что видел, как на улице застряли, сцепившись колесами, высокие немецкие фургоны. А мать толковала ему про хлеб и разные наши нехватки, про металлические пуговицы, которые Сергей срезал с его куртки и променял у мальчишек на сахар...
- Уж и вприкуску не хватает, — сокрушалась мать.
- Ничего, вприглядку пить будем! — ответил отец, который осунулся, но был как никогда бодрым и веселым.
По вечерам он теперь часто брал гитару и напевал:
Молоденька Марусенька
Все дворы обходила,
Все дворы
обходила,
Ни в одном не плакала.
В казармы на Большой Москалевке вернулись красноармейцы, а среди них и бойцы телефонно-телеграфного батальона, папины друзья.
Сергею вскоре на рынке купили серые суконные штаны германского происхождения.
На дворе у нас валялась каска с острым шишаком — «кастрюля».
В школе мы только и гадали, что получим на переменке — чечевичный суп или по куску хлеба с повидлом?
Помню плакат:
Вся влада Радам! Смерть гадам!
Белая армия, вооруженная империалистами, пыталась задушить революцию, взять землю обратно, отнять свободу и восстановить в России капиталистический строй.
Части белой армии направились на Москву через Украину. Белогвардейцы захватывали город за городом. В летние, жаркие дни 1919 года деникинцы наступали на Харьков.
И по нашей крыше цокали пули. Мать держала дверь на запоре, не выпускала нас на улицу. Полил дождь. Мать всегда спешила подставить ведра к желобам, а на этот раз и нас не послала, и сама не вышла.
Хлеба в доме не было. Выручали подсолнухи. Получили мы в подарок из села целый мешок, думали, на всю зиму хватит, а тут налузгали целые вороха шелухи.
В горле першило. Пить хотелось. А мать и за водой не пускала, делили по глоткам оставшуюся воду.
Наконец все стихло.
Белогвардейцы мчались на низких лошадях. Тот, кто был впереди, размахивал шашкой. Гикали и улюлюкали. Над пиками развевалось царское трехцветное знамя.
...Отец рассказал, что деникинцы снова вывесили на балконе Центральной телеграфной конторы огромный царский вензель. Квартальный следит, чтобы прохожие перед вензелем шапку снимали, «а не то в кутузку».
Мать послала меня к Желтиковой отнести белье. Все было накрахмалено и выглажено.
Когда я постучала, генеральша выслала мне навстречу горничную в белом переднике. Она была похожа на гимназистку. Горничная приняла белье. В передней стояли лаковые сапоги с неотстегнутыми шпорами...
Пришли деникинцы и вернули Аничкину его рудники.
...Мать узнала, что в церкви служить будет архиерей, и взяла меня с собой.
От алтаря был разостлан ковер.
Кучер Аничкиной, с расчесанными бакенбардами, намасленный и почтительный, пятился назад, боясь наступить на ковер.
Впереди всех Желтикова с сыном, Аничкина с дочерьми и другие тузы.
Запах духов смешивался с запахом ладана.
На плечах генеральского сына блестели эполеты. Одна рука у него была на черной перевязи, в другой он держал фуражку с кокардой.
Здесь же на ковре стояли и молоденькие «милосердные сестры» в белых косынках с красными крестиками. Раньше таких прихожанок с иконописными лицами я не видела в Москалевской церкви.
Мы с матерью стояли ближе к певчим, у самого клироса. Я поднялась на ступеньку. Впереди нас, через несколько голов, стояли бакалейщик и его сын Мишка. В церковь он пришел в новенькой матроске. Бескозырку с лентами держал так же важно, как и генеральский сын фуражку.
«Мишка с отцом тоже белые», — сразу решила я.
Певчие запели «Отче наш». Мишка оглянулся, я, встретившись с ним взглядом, неожиданно для себя показала ему язык и тут же раскрытым ртом громко подхватила вместе с хором: «Иже еси на небеси».
Спустилась со ступеньки и стала рядом с мамой.
Кончилось богослужение. Заскрипели сапоги. Так отчетливо зазвенели шпоры. Генеральша с сыном не спеша возвращалась домой. Деникинцы, которые шли им навстречу, брали под козырек. Генеральша милостиво им кивала.
Мать шепнула мне на ухо:
— Смотри как задаются!
От нас мать требовала, чтобы мы «зря не болтали», а сама выстирает белье генеральше, разглаживает оборки, «как снег» складочки и кружева, и сдержать себя не может:
— Грязногвардейцы проклятые!
Сергей всех их называл старорежимниками. Родя сберег портрет щуплого Николашки, он вывесил его в гостиной — в новой позолоченной овальной раме.
Сергей увидел портрет, шаркнул и сказал:
— Христос воскрес!
Сергей приносил нам городские новости. Он рассказал, как деникинцы арестовали его тезку Сережку Артамонова. Дворник выдал его, как комсомольца. Он и был комсомольцем. Выволокли его из дома на улицу. Мать Артамонова упала на колени, кричала: «Пощадите!» Но белогвардейцы тут же на улице, чтобы все видели, зарубили Сережку, а ее отогнали плетью.
Наша мать умоляла Сергея прекратить свои прогулки по городу:
— И тебя за комсомольца примут. Сергей блеснул глазами:
— Все может быть!
Мать после этого целый пузырек валерьянки выпила. Тревожно было и за сестру. Только собирается выйти из дому, а мать просит:
— Пожалуйста, не оглядывайся!
Деникинцы прогуливались и громко произносили: «Товарищи, подождите!» Скажут так, а сами только и смотрят — кто на их окрик невзначай обернется. Беда тому.
Каждый день мать носила отцу еду на телеграф. Придет взбудораженная и отдышаться не может. Своими глазами видела, как у гостиницы «Метрополь» арестованных вели.
— Бедняги, в одном нижнем белье. У одного арестованного на веревочке медный крестик болтается... На Гонча-ровке контрразведчики подпольщика арестовали: на Шерстомойке кто-то листовки разбросал...
Мать видела такую листовку, но взять побоялась.
- Говорят люди, что написано там о зверствах белых гадов, о том, как привязали они пленного красноармейца к лошади, сел на лошадь офицер и понесся вскачь...
Когда мать рассказывала об этом, у нее перехватило в горле.
Все знали, что деникинские контрразведчики рыщут по городу, ищут большевиков, красноармейцев и тех, кто стоит за советскую власть.
Гостиница «Палас-отель» стала страшной. Там пытали людей. Били пленных красноармейцев и приговаривали: «Будем бить, пока не побелеете». Булавками кололи под ногти, ставили на колени перед портретом Деникина и заставляли петь «Боже царя храни».
Стало известно, что из тюрьмы на Холодной горе деникинцы гонят арестованных в Григоровский лес. Там вешают, расстреливают, добивают прикладом...
Я с отцом так любила гулять в Карповском саду. А теперь каждый вечер с той стороны до нас доносились залпы. Мы знали, что это за залпы.
Горе не обошло стороной и нашу Газовую.
В облупившейся мазанке снимал комнату слесарь Петро. Был он вдовцом, остался у него на руках очень светлый, белокурый Андрейка. Петро всюду водил его за собой, а когда шел на работу, оставлял Андрейку у бабки Ефименко.
В одну из ночей деникинцы увели Петра. Труп слесаря видели у моста через Лопань. Помню, как Андрейка стоял у калитки и смотрел в сторону, откуда обычно отец возвращался. Никак не могли оттащить мальчишку от дома. Он стоял в длинной рубашке до самой земли, повязанный черным бабьим платком. Губы сжал. В глазах ни слезинки, насупился.
Только бабке Ефименко удалось его отвлечь и отвести к себе.
Стал жить у них Андрейка. Спал он под лоскутным одеялом. Тоська сама подстригала ему волосы и мыла голову дождевой водой.
Андрейка не любил, когда его по головке гладили. Ночевал у Ефименко, а днем путешествовал, ко многим в гости ходил. Где накормят чем, где граммофон заведут. Даже очередь, как пастушок, соблюдал. Сегодня — у одних, а завтра — к другим.
И у нас любил на крыльце посидеть. Мать угощала его кулешом. Поест Андрейка, никогда спасибо не скажет. Но если очень вкусно, вытрет губы рукавом и улыбнется. Нелегко было заслужить улыбку Андрейки.
Входя в дом, он никогда не стучал. Придет и станет молча, пока кто дверь откроет. Так и говорили о нем: «Как бы не пришибить».
Но были дома, которые он обходил.
Если день-два не приходил Андрейка, то нашим женщинам было не по себе, одна за другой бежали к Ефименко.
Упрям, настойчив был Андрей Петрович. Но стоило только сказать ему: «Отец велел» или «Отец наказал», как он настораживался и слушался.
В свои последние дни деникинцы были особенно люты.
Мать рано закрывала ставни. И по нашей улице неслись сани, автомобили, повозки... Шел дождь со снегом. Белогвардейцы мотали провода. Вступали в Харьков, надменно купаясь в лучах южного солнца, а отступали, подгоняемые паникой и ненастьем.
Генеральша прибежала запыхавшаяся. Она искала Родю. Долго металась по двору, да так и не дождалась Родиона Ефимовича. Когда менялась власть, он был по горло занят. Желтикова поспешила домой.
Днем и ночью слышался отдаленный гул.
В те дни научились мы разбираться в залпах, то в зычных, то в гулких орудийных раскатах. Даже во сне они звучали в ушах.
Всю ночь ждали, ждали. Сергей поднялся чуть свет.
И матери не сиделось дома. Вместе с нами, девчонками, пошла она на Москалевку.
Червонные конники, латышские стрелки, красные полки входили в Харьков.
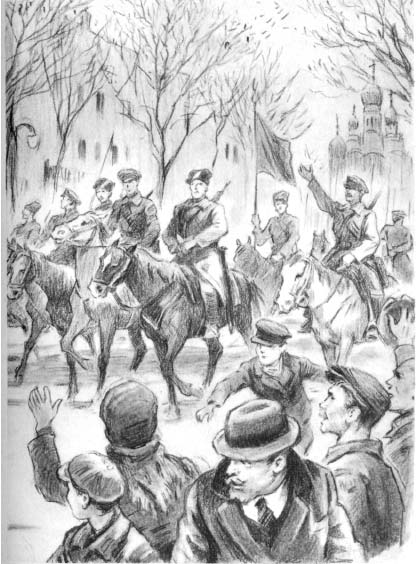
На улицах стало людно, но среди встречающих не было господ в котелках и разнаряженных дам с перьями на шляпах.
Василь Игнатович свою потертую шинель подпоясал ремнем. Он держал за руку Андрейку.
Мне запомнился всадник с забинтованным лбом. Через повязку выступала потемневшая кровь.
Из одного дома выбежала женщина в ситцевом платье. В руке она держала красную косынку.
— Покуражились над нами, вытворяли все, что им заблагорассудится! — очень волнуясь, крикнула она.
Всадник с забинтованным лбом остановил коня. Его сразу же обступили. Василь Игнатович поднял Андрейку,
а он потянулся рукой к красному банту, вплетенному в гриву коня.
Кавалерист внимательно посмотрел на всех и — такой строгий и серьезный — вдруг радостно крикнул Андрейке:
— Смельчак! — и по-ребячьи расхохотался, а за ним и все рассмеялись.
Мальчишки размахивали красными флажками, подбирали на улицах расстрелянные патроны и пели «Интернационал».
Ефименко перебирались в дом бежавшего с деникин-цами рудопромышленника Аничкина. Переселением верховодила бабка Наталка.
И мать моя взялась им помогать. Надо было растопить все печи в холодном доме. Не печи, а зеркала. Медные отдушники начищены, как самовары.
Мы с Тоськой, пританцовывая, ходили из одной комнаты в другую, как по Сумской, главной улице. Встречались, кланялись, делали реверанс и нараспев произносили: «Мерси!»; прощались, как будто и мы расфуфыренные барыньки с веерами.
В дом можно было войти с трех сторон: парадный ход, черный и дверь в сад. Вот где играть в прятки и жмурки! Никогда всех не застукать, не поймать.
На дворе по проволоке носился и рычал огромный пес Султан, оставленный хозяевами. Миска у его будки была пуста. Султан охрип. Потом он опустил голову на лапы и завыл...
Я бы ни за что не подошла к нему. Когда раньше проходила мимо особняка Аничкиных и слышала, как рычит пес за высоким крашеным забором, и то вздрагивала.
Все таскали вещи, а Андрейка остался без присмотра. Утопая в каких-то великанских чеботах, человек пяти лет от роду подошел к самой будке. Только я хотела людей позвать, а Андрейка что-то кинул Султану. Пес съел и, не спуская глаз с Андрейки, завилял хвостом.
Вещи переносили на руках: и ящики из комода, и комод, который так необычно выглядел без ящиков. Несли
железные миски, разливательную ложку, ведро, какой-то ларь... Потом поплыла целая вереница узлов.
Квартал окутался пылью. Это тщательно вытрясали бабкины половики.
А сама она, такая деловитая, расстилала их в комнате. Не могла на них наглядеться. И так, и этак! От дверей -к окнам, по коридорам... Намяла за день ноги, а все стелила и стелила.
— Тряпок белых много. Я еще покрашу, навяжу, — приговаривала бабка Наталка и с опаской поглядывала на камин.
Когда всё расставили, в самую большую комнату на койке внесли изможденную долгой болезнью Евдоху Ефи-менко. С койки ее переложили на широкую деревянную кровать.
В комнате было тепло, и больную укрыли простыней. Она протянула руки под простыней, лежала притихшая, удивленная.
Василь Игнатович поправил ей подушку. Присел он на белую постель, посмотрел на Евдоху и тут же встал, подошел к буфету, взял с верхней полки два высоких прозрачных бокала, звякнул ими друг о друга, и в доме будто зазвенели колокольчики.
Дядя Василь остановился у большого зеркала, взглянул на себя и лукаво улыбнулся:
— Господа Аничкины смотрелись. Теперь мы... Наглотались с тобой пыли, Евдоха. Ой, наглотались!
Он достал ножницы, складную бритву, помазок, налил воду в фарфоровую баночку из-под мази, дернул себя за бородку, потом собрал ее в одну горсть и сказал:
— Хватит с пучком ходить!
Василь Игнатович, намыливая лицо, приговаривал:
— Хороша кисточка. Мягкая. Щетинкой свою щетинку! — Его лицо покрылось густой мыльной пеной.
У Тоси заблестели глаза:
— Сейчас будем со щек мыльные пузыри пускать! Бабка Наталка дернула ее за кудри.
— Какой бес тебе их так закрутил! — сказала она и оттащила Тосю от зеркала, чтобы не мешала отцу.
Василь Игнатович и после того, как побрился, с каким-то недоверием посматривал на себя в зеркало. Его щеки стали более впалыми, бледными.
— Не горюйте! Моя борода быстрая. Захочу — метлу отращу и полотерные щетки сделаю, — сказал он, убирая бритву.
Одна комната еще пустовала. Там на столике я увидела телефон — коричневый ящичек с иссиня-черной трубкой на рычаге.
Отговорились Аничкины, а телефон скучал.
«Покрути!» — просила меня рукоятка.
«Подыми!» — настойчиво твердила трубка.
Я растерялась. Кого вызвать, что сказать? Не отрывать же отца от работы. Не знала, с чего начать. Не заметила, как подошла Тося. Не успела я опомниться, как она крутанула рукоятку, несколько раз подула в трубку, передала ее мне, и я услышала удивленный голос сестры.
Через день пошла вместе с Леной к ней на почту и оттуда звонила на Газовую: «Позовите, пожалуйста, Тосю!» Знакомый ее голос звучал как-то незнакомо. Потом он показался мне глуховатым. Оказывается, разговор продолжал Василь Игнатович, а потом и Вера Ефименко пропела в трубку: «Кому это нужно?»
Я слушала с наслаждением. Раньше мы играли в «испорченный телефон», шептали друг другу в самое ухо всевозможную чепуху. Другое дело — настоящий, исправный! Мы в разных концах города, а провод все передает: и как волнуешься, и как дышишь. Алло! Алло!
В детской комнате, где жили Лариса и Маргарита, стоял большой книжный шкаф из резного дубового дерева. Часть книг уже увезли в клуб. А про те, что остались в шкафу, человек, отбиравший книги, отозвался презрительно: — «Золотая библиотека». Это о добрых богачах.
Я увидела на полке знакомую книгу «Сказки братьев Гримм» и достала ее из шкафа. Хоть и долго трудились тогда над пятном, а оно так и осталось.
Посмотрели мы с Тосей друг на друга, ничего не сказали, потому что и сейчас на ней было то самое платье, только никто не знал, как я его разорвала.
Подошла я к окну, облокотилась на широкий подоконник и посмотрела на улицу. За деревом — через два дома — наш беленький, с зелеными ставнями, в котором мы живем. Ой, какой же он маленький!
Меня все время влекло к Ефименко.
Котя не любила, когда мы начинали играть у нас на дворе, особенно под ее окнами. При немцах и деникинцах она нас гнала без стеснения, а теперь не скажет ничего, но посмотрит так, что и играть не захочется. Зато у Ефименко играй от зари до зари!
Девчачьи игры без затей, то в лавку, то в лоскутки; у мальчишек же — все с фокусами.
Как-то днем одна, без девчонок, слонялась я из угла в угол по двору. Мать с утра ругала погоду. Печка дымила. Тяга плохая. Деревья стояли мокрые, черные. Снег падал большими хлопьями. Ногам было холодно. Я уже собралась уйти в дом, как на дворе появились мальчишки и невозмутимый, медлительный Митька Рогачев, размазывая снег по щекам, как бы невзначай спросил меня:
— Хочешь на доске полетать?
— Хочу!
— Только с завязанными глазами. — Ладно.
Положили мальчишки на землю широкую доску. Стала я на нее. Мне завязали глаза и говорят:
— Как услышишь команду: «Прыгай!» — сразу прыгай, а раньше нельзя, разобьешься.
Полет начался. Вначале так плавно меня покачивало, потом все быстрей. Будто действительно лечу. А тут еще слышала разные одобрительные голоса:
- Летишь над Тоськиным домом, над трубой! Чуешь дым?
Дом Тоськи на пригорке. «Как высоко!» — думаю. Дух захватывает, и действительно дым чую, как бы ногами за трубу не задеть, а глаза так завязали, что и не подглядеть.
— Опустите на землю, хватит! — кричу. Митька Рогачев все поясняет:
— Скоро дом твой. У самого забора летишь. Прыгай!
Я чуть поджала колени. Мама родная! И прыгнула одним махом.
Думала, прыгаю с высоты, а оказалось, что под смех мальчишек сразу растянулась на мокрой земле. Самой смешно стало. От страха да от смеха разогрелась.
Мальчишки визжали довольные, что фокус-покус удался.
— Прыгнула Галка через балку! — кричат.
Доску-то раскачивали они, чуть-чуть приподняв над землей. Дым почуяла — это у моего носа мальчишки пучок соломы подожгли.
Такой полет можно было совершить только раз. С меня взяли слово хранить секрет — от других охотниц.
Вместе с мальчишками я покатывалась со смеху, когда Тоську так же раскачивали на доске. По команде «прыгай» она прытко сиганула и растянулась так же, как и я.
...Бабка Наталка не могла нарадоваться на свое новое жилье.
Хрустальные канделябры увезли в музей, но и без них в ясные морозные дни солнце подолгу гостило в комнатах. У бабки слезились глаза.
Сверкали блестящие ручки на дверях, бокалы в буфете, цветы на обоях. Даже половики были залиты солнцем. Зеркало отражало блеск.
Одно печалило старую Ефименко. Раньше почтальон Лепехин каждый день звонил в парадную дверь особняка, всё письма Аничкиным носил, а поселились Ефименко, он все мимо да мимо.
В комнате с телефоном, рядом с семьей Ефименко, поселился высокий военный — латыш, и его жена — наша, харьковская. Ростом она была почти вровень мужу, ходила в полушубке, подпоясывалась ремнем. Гимнастерку носила навыпуск. Я думала, что она военная, а оказалось, что нет, только так одевалась. И пышные волосы подстригала по-мужски, «в скобку». Мне она сразу понравилась. Губы сомкнутые, не улыбнется, вроде строгая, а голос мягкий, приветливый, и глаза синие, синие!
Они недавно поженились. К ним приходило много людей. Все поздравляли.
Бабка Наталка про новых соседей рассказывала, как Оскар все на Олесю свою любуется.
— Комиссарша, а как лебедушка! — поясняла бабка. Она была рада, что латыш и с ней шутит. Веселый,
игривый, а люди, которые к ним ходят, все как на подбор молодцы.
— Дубленые ребята!— говорила бабка.— Вот так у нас все колесом и идет!
Мы в Харькове уж давно привыкли и к польской и к
латышской речи. Началась мировая война, и в Харьков хлынули с запада беженцы. Из Риги к нам эвакуировались Электромеханический завод и Велосипедный. Всем мальчишкам не терпелось, чтобы скорей наладили на новом месте Велосипедный завод; мечтали на рижско-харьковских машинах прокатиться.
В городе уважали рижских металлистов, слесарей, монтеров. Один из них на Мыловаренном заводе мудреный станок быстро наладил. Стали его благодарить. Он в ответ на «большое спасибо», сказал: «Большое пожалуйста». Не по-русски и не по-украински, зато от души! Мать про него сказала: «Не слесарь, артист!»
Бабка Наталка была довольна и тому, что теперь все чаще и чаще стал останавливаться у особняка почтальон Лепехин. Она гордилась тем, что со всех сторон к ее соседям письма приходят: и с фронтов, и из далеких городов, к тому же пишут на разных языках — всюду, значит, их адрес известен!
Как увидит Лепехина, спешит ему навстречу. Всегда у парадного затевала с ним разговор. Говорила громко, на всю улицу.
...Один день был совсем особенный. И мне пришлось побывать на новоселье. Гостей было видимо-невидимо.
Бабку, которая надела на плечи цветистую шаль, посадили рядом с командиром атлетического сложения — высокий, под потолок, волосы у него ежиком, а в плечах — сажень.
В гости к Оскару он пришел прямо из госпиталя, опираясь на палку. Говорили, что врачи не отпускали его, а когда узнали, что спешит к другу, — сразу разрешили, «чтоб скорей выздоровел».
Начал он говорить тихо, потом увлекся и повысил свой звучный голос. Он рассказал о том, как недавно в Харькове «забавлялись» деникинские генералы. Одному из них по вечерам наигрывал на скрипке музыкант. Пьяный генерал покрывал лысину музыканту деникинскими «колокольчиками» и при этом грозил:
«Выпорю, если с лысины свалится хоть один колокольчик!»
Должно быть, бедняга музыкант боялся головой шевельнуть.
Одна гостья посмотрела на Оскара и Олесю, повела бровью и начала так задорно:
Ой що ж то за шум
Учинывся?
Що комарик та и на муси
Оженывся!
Все смеялись: ну и «комарик», ну и «муха»!
Василь Игнатович был чисто выбрит, но то и дело хватал себя за подбородок. Он расстегнул ворот сатиновой косоворотки, одну руку прижал к волосатой груди, а другой поднял рюмку и громко крикнул:
— Будем друг к другу в гости ходить!
— Садись, садись, шальной, — уговаривала его бабка Наталка.
Весь вечер улыбка не покидала сияющую мордашку Андрейки. Он с восторгом пересаживался от одного военного к другому, трогал руками ремни портупей, бегал глазками по «скатерти-самобранке» и клал за пазуху дары для Султана. Султан перестал рычать и скалить зубы на таких, как Андрейка. Он подпускал к себе мальчишек, а они несли ему куски и кости; не забывали и воды налить в миску.
Стали во двор к Ефименко приходить не только с Газовой, но и с Моечной, Сирохинской, Единоверческой, Владимирской, со всей Москалевки.
Султан вначале лаял на стук калитки, потом перестал. Сложит лапы и внимательно следит за тем, как мы играем. Но если кто пробегал перед его мордой, он начинал лаять, словно хотел, чтобы мы его в игру приняли.
Спустили мы его с цепи. Он закрутился, хвостом завилял и начал бегать вместе с нами — всех догонял.
Оскар вышел к нам и сказал:
— Ох, собаку испортите, она не будет злой Василь Игнатович нас поддержал:
— Пусть бегает. Чего тут сторожить?
— Единогласно! — согласился Оскар. И сам начал теребить Султана: — Хороший, хороший! Крупная порода. Как бы не ушел!
Играли мы в прятки, я и залезла в сарай на верхнюю балку. Потолка в сарае не было. Лежу животом вниз. Балка широкая. Удобно. Весь двор в открытую дверь виден. Всех застукали, а я лежу.
Зашел в сарай Колька-Черепок, по фамилии Черепков. Шарит он по низам. Я его вижу, а он меня нет. Но пес водил вместе с Черепком. Он вбежал в сарай и сразу же поднял голову вверх, залаял и выдал меня Кольке.
Больше всего Султан любил цурки. Увидит он цурку — сразу схватит.
— Султан, отдай цурку! Ни за что не отдаст. ...Весна 1920 года.
Лопань уже давно отступила от задних дворов, но все еще была полноводной.
Цвела белая акация. Ее белые и розовые кисти пахли ванилью.
Отец и Сергей много говорили о том, что пан Пилсуд-ский идет по стопам кайзера Вильгельма.
С казарм на Большой Москалевке отправлялись роты на польский фронт.
Когда мы узнали, что белополяки заняли Киев, казалось, что снова по нашей крыше цокают пули.
Летом того же года мальчишки много играли в войну. Так же как Красная Армия, ребята гнали на дворах Газовой «шляхтичей» вон из Киева!
— Гей, гей, гей!
Размахивая «саблями», скакали верхом на палках и кричали: «Даешь Варшаву!»
Отец вернулся домой раньше обычного.
В те дни только и разговоров было о Крыме да о Врангеле, — на подмогу панам барон бросил белые войска.
Не сразу поведал отец, что уезжает.
Когда мать узнала об этом, она заплакала, решив, что отца мобилизовали на фронт против белополяков или на Врангеля. А отец успокоил: получил он важное задание — возглавить почтово-телеграфную контору в маленьком городке; линии оттуда идут на Донбасс.
При людях отец больше молчал, улыбался редко и то как-то слегка, кончиками губ. Но стоило ему завести речь о почте, как от сдержанности не оставалось следа. Все
переживал: и то, что мало почтовых вагонов и люди до сих пор отправляют письма «с оказией»; что враги грабят посылки бедняков, кладут в них кирпичи...
Отец оживлялся и пламенел, когда в газете встречал выступления Подбельского, народного комиссара почт и телеграфа: о чем отец думал про себя, Подбельский произносил вслух.
— При царе почтовые ящики были желтыми, теперь их выкрасили в синий цвет, а почта должна быть красной почтой, — говорил отец.
Однажды он сказал, что связь надо наладить так, чтобы ни один контрреволюционер не мог бы воспользоваться проводом ни на одну минуту. Отец привстал:
— Советская почта и телеграф — это наша сабля, и должна она быть в надежных руках!
Должно быть, он повторял слова своего наркома.
Отец мечтал, как повсюду, даже в самых глухих местах, откроются новые почтовые отделения и свяжут они глушь со всем миром.
Как любил он свой телеграф! Приложил раз ухо к серому столбу и сказал:
— Гудит!
После разговора с отцом мать куда-то ушла, а когда вернулась, будто кто ее подменил. Ей стало известно, что отец мог бы и отказаться. Другим тоже предлагали, а они остались в Харькове. Никто отца не гонит. Человек он семейный, не так уж молод, здоровьем слаб, а согласился ехать без всяких разговоров...
Только начала мать так говорить, как отец покраснел и рассердился. В таких случаях мне всегда казалось, что ему не хватает воздуха.
— Мог бы, мог, а кому-то ехать надо! Сергей поддержал отца:
— Не всякому такое доверие: беспартийный, а будет комиссаром на почте.
— Завтра же должен выехать! — сказал отец.
Мать не ожидала, что затеянный ею разговор так обернется. Сразу стихла, а потом засуетилась, стала называть отца Степушкой и только украдкой, нет-нет, а поглядывала на него как-то необычно, не то с испугом, не то с укором.
Потом говорил отец, а мать слушала и со всем соглашалась.
— Хорошо, что Елена уже работает на почте. Сергей перестал шляться. Теперь у него много надежных друзей. Раз при деникинцах уцелел, о нем можно не беспокоиться, — сказал отец. Помолчал и добавил: — В доме остается мужчина!
Сергей был доволен, а я чуть не фыркнула. Но мне было обидно: все о Сергее, о сестре, а обо мне ни слова.
Мать вздохнула: «Кто нашему полуночнику постирает, кто сготовит...»
И тогда по-серьезному я вмешалась в разговор старших:
— Отец, возьми меня с собой!
Помню, как отец задумался, стал сосредоточенным, а потом вдруг кивнул головой. Я даже опешила.
Еду! Еду! И не когда-нибудь, а завтра!
Я спала беспокойно. Как бы не передумали. А когда наступило завтра и, приоткрыв глаза, я сразу увидела, что мать собирает не только съестное, но и мою одежонку, — поняла, что наступил день, не похожий на все другие дни.
Мать сердилась на Сергея. Куда это он запропастился?
Прибежала Тося. Остановилась в двух шагах и глядела на меня с открытым ртом.
Я и сама все еще не верила, что еду. Будто одна Галя собирается в дорогу, а другая остается и крепко сжимает губы, чтобы не разреветься.
Сергей появился в последнюю минуту. Он так занят, что не может пойти с нами на вокзал. Сергей протянул руку отцу на прощание и что-то смеясь сказал необыкновенным басом. Отец ничего не ответил, только привлек Сережку к себе.
Глаза у матери стали влажными, а я даже позавидовала брату.
Когда мы уходили, отец обернулся и еще раз посмотрел на наш домик, будто ему что вспомнилось...
То протяжные, то отрывисто-хриплые гудки паровозов проникали к нам в дом, так же как свет сквозь щели ставен. С детства привыкла я к гудкам, но, когда услышала протяжный свист на перроне вокзала, вздрогнула. Это была моя первая поездка.
Я оробела от толпы, от истошных криков.
Будто ветер разворошил все пестрые тряпки и лоскуты.
Обвешанные мешками, узлами, сундучками, корзинками, звеня жестяными чайниками, люди лезли на крыши, буфера, площадки. Отец то и дело ограждал меня рукой от тех, кто слишком ретиво напирал.
Толстая, раскрасневшаяся женщина пыталась забросить свою поклажу на крышу вагона. Одной ногой она упиралась на плечо человека в шинели, другую пыталась занести на крышу, но кто-то оттолкнул ее, и она с воплем полетела вниз.
На крыше почтового вагона стоял парень. На его поясном ремне болтался закопченный котелок. Он решительно отталкивал тех, кто пытался забраться «на верхнюю палубу».
Нас сразу впустили в вагон. Мое оцепенение не проходило. Мать гладила по голове. Лена целовала в щеку. Я же крепко прижималась к отцу и пришла в себя, только когда он отстранился, чтобы обнять маму.
Наконец задребезжал звонок, что-то дернуло, зашипело, и поезд, звякнув звонкими тарелками буферов, медленно тронулся, оставляя за собой всех, кто кричал и пытался уцепиться.
— Береги отца! — доносится до меня родной голос. Сполз платок с головы мамы; Лена старается, но не может догнать поезд...
Домики машут ставнями. Извозчики и подводы будто топчутся на одном месте...
Мерно застучали колеса.
В почтовом вагоне целая стена с ящиками. Они выдвигаются, задвигаются, мелькают белые, синие, серые пакеты и конверты.
Пахнет сургучом.
Много пришлось мне поездить за свою жизнь. Рабочие, пригородные, местные поезда, курьерский «голубой экспресс» Москва — Харьков; из окна вагона видела я и Байкал; довелось побывать и на Дальнем Востоке... Но никогда не забыть ни с чем не сравнимую первую поездку.
Не могла оторваться от окна.
Нас встречали, потом секунду бежали вровень и тут же оставались позади телеграфные столбы. Начала их считать — сбилась со счета. Снова считала до пятидесяти, до ста, а потом стала смотреть без всякого счета...
Городская девочка, я знала пустыри, левады, сады
окраины, но никогда не могла даже вообразить такого простора. Сидишь на одном месте, чуть покачиваешься под стук колес, а словно летишь как птица над бескрайной землей. Как будто листаешь книгу в тысячи и тысячи страниц, книгу без конца...
Плывут безлесные балки, редкие деревья с пожелтевшей листвой, корявые кустики, выгоревшая трава.
Самый главный в почтовом вагоне оказался давнишним знакомым отца. Они говорили о своих сослуживцах, кто как на свете живет; вместе когда-то работали они в «простом отделе» — сортировали почту.
Вначале все припоминали, а потом начали друг над другом подтрунивать:
— Эх ты, мешок с ярлыком!
— Подумаешь, слаботочник! Расскажи, что видел, когда головой вниз висел.
— Зато не из сургучного департамента.
— Конечно, не из телеграфно-трясучего.
— На телеграфе так не трясет, как у тебя в вагоне, — сказал отец и взял в руки гитару.
Под такт колес он начал тихо напевать:
Деньги, марки, бандероли,
Заказные отправления.
И от
штемпеля мозоли,
И просчеты от волнения.
Отец пел негромко, а его «давнишний» вытянулся на скамейке и сразу же резко захрапел. Вскоре голова его сползла с подушки, он перевернулся на другой бок, подушка оказалась прижатой к стенке, а он как ни в чем не бывало начал ловко высвистывать носом тоже какую-то песенку, только без слов.
Я взглянула на подушку. Ее темно-красная ситцевая наволочка показалась мне очень засаленной. Давно бы сменить ее да постирать!
— Вот она, дорожная жизнь, только успевай, спят урывками. Потому, сердечный, и задает храповицкого, — сказал отец и отложил гитару.
А я боялась, вдруг что-нибудь прозеваю, прогляжу, и не отрывалась от окна.
Поезд замедлил ход, лязгая и тяжело вздыхая, остановился у станции. Из нашего вагона вынесли, а потом внесли кожаные мешки с сургучными печатями и много посылок. Адреса на них были написаны вкривь и вкось, не по правилам чистописания.
Я читала адреса, так как знала, что посылки принимали только туда, где голод. Больше всего посылались сухари. Они-то и тарахтели.
Неизвестно, долго ли будет стоять поезд. Почтовики спешили.
У нас дома не было часов с боем. Если мне удавалось слышать, как бьют стенные часы, я всегда про себя отсчитывала удары. А на станциях гулко звучал станционный колокол. С восторгом отсчитывала я звонки отправления: первый, второй, третий, разглядывала из окна красный околыш фуражки дежурного по станции.
Свисток кондуктора — отправление!
Надрывистый, басистый гудок паровоза. Что-то рвануло, и поезд тронулся. Долго ли простучат колеса?
Часто-часто поезд замедлял ход и, гремя буферами, со скрипом и треском дергал и останавливался. Недаром говорили в вагоне: «Неделю ползем, неделю стоим».
Когда стемнело, в окне замелькали огни. Они то возникали, то надолго исчезали. В вагоне зажгли стеариновую свечку.
Передо мной вся стена покрыта клетками. И днем и ночью около ящичков в стене идет «разделка и заделка» почты. Чуть подпрыгивают конверты в руках. По клеткам сортируются письма.
Трясет, стучит, качает...
Пахнет пылью, смолистым сургучом, мешковиной. Повернуться негде. А тут так рванул паровоз, что со столов и клеток бумаги и письма посыпались. Мой отец помогает ворчливому начальнику поднимать их с пола.
Дрожит и вспыхивает маленький язычок пламени. В моих глазах все туманится. Не свеча, а огарок. Сами собой закрылись веки. Мне не нужен свет. А они сидят в темноте. Начальник зажигает какой-то фитилек в склянке. Душно и едко.
Я говорила отцу, что не хочу спать, а сама уже спала; спала, и мне казалось, что голова моя покоится не на мяг ком свертке, подложенном отцом мне под голову, а на барабане.
Маятник бьет в барабан.
Зато каким радостным было пробуждение! Весь вагон был розовым. В розовом широком луче кувыркались необыкновенно крохотные пылинки. Даже штемпель, лежавший на столике, стал розовым.
В окне вагона мелькали тополя, а из труб хат поднимался и таял дым...
Отец опустил окно. Сладкая прохлада ворвалась в вагон, будто росинки «проштемпелевали» все ящики с конвертами, мотки шпагата и даже штемпельную подушку.
Поезд остановился. Первым спрыгнул на землю отец, а потом и я — к нему на руки.
Машинист, размахивая фуражкой, кричал:
— Выходи!
Все вылезли из вагонов. Опустели и крыши.
На паровозе оказались пилы, топоры, ведра. Долго пилили бревна, грузили дрова, подносили воду. Потом без крика и сутолоки пассажиры заняли свои места в вагонах и на крышах. Старый паровоз, нехотя и как-то сердито пыхтя, повез нас дальше.
И снова частые, долгие-долгие остановки, недовольные разговоры о том, что «у машины паров не хватает».
Я уже сама прыгала с подножки на землю. Только и знали, что из вагона и в вагон. В дороге впервые услыхала я о бандитах: «Они метят прямо в паровоз».
Так вот почему мама глубоко вздыхала, собирая нас в дорогу. По телу прошел холодок. Все как-то переменилось. Отец строго взглянул на меня.
Парень с котелком на ремне — самый молодой из всех почтовиков — взял в руки винтовку. Он улыбался, сверкая белыми, крепкими зубами. Никого он не пустит в вагон.
Мало-помалу я успокоилась.
Наш паровоз устал, как пеший человек, взбирающийся на гору. Состав разделили. Половина вагонов осталась в степи. Паровоз, почувствовав облегчение, повез головную часть состава к ближайшей станции. Довез, поставил на запасном пути и, пыхтя, отправился обратно за «хвостом».
Долго, долго тянулось время. Мы вышли. Сухо. Тепло. Тут же у полотна, на кострах, пассажиры варили горячее: суп с неочищенной картошкой. Отлеживались на сухой траве.
Мы с отцом пошли собирать цветы. Вдруг я наткнулась ногой на что-то твердое, подняла находку и подозвала отца. Находка оказалась шахтерской лампой! Как мы обрадовались, встретив «земляка» с Газовой. Будто я услышала, как на заводе Дитмара шумят станки. У каждого станка свой голос.
Мы долго разглядывали лампу.
Отец на коленях разобрал ее и сокрушался, что кто-то гвоздем проколол металлическую сетку. Он объяснил, что эта сетка-колпак, сотканная на особых ткацких станках из тончайшей железной проволоки, не пропускает пламя. Сетка, как сердце: она должна быть совершенно чистой. А вот с этой лампой уже нельзя спускаться в шахту. Сетка проколота, заржавела.
Но, несмотря на это, я начала песком начищать лампу. Отец решил взять ее в вагон: «Стекло хорошее, такое не лопнет». С лампой и с цветами я вошла в вагон. Папин знакомый очень обрадовался нашей находке. Он назвал меня «лампоносом» и сказал, что шахтерка пригодится.
Паровоз, подтащив оставленные в пути вагоны, снова вернулся на станцию. Сцепили состав. Паровоз загудел басом и выпустил облако белого пара.
Ехали, стояли...
Выходили из вагонов и подталкивали поезд руками, помогая преодолеть крутой подъем. Люди кряхтели, а все-таки были довольны, что хоть таким образом, а «едут».
И вот наконец станция, где нам вылезать. Я оставила почтовый вагон, как давно обжитую комнату. Начальник почтового вагона помог отцу отгрузить тяжелые ящики.
— Ну, смотри, слаботочник, не зевай! — говорил он, а сам позевывал.
Но вот и третий звонок. Буфера напирают друг на друга.
Мы долго стояли на перроне, пока поезд не скрылся в степи.
«Шахтерка» поехала дальше. Пусть светит она почтарям, когда будут они в пути сортировать корреспонденцию.
На станции нас поджидал воз, запряженный двумя сизыми волами, похожими друг на друга как две капли воды. Возле волов стоял большой, крепкий старик в косматой шапке, с густой бородой, как у нарисованного бога.
Завидя нас, он крикнул: «Добро! Добро!»
Вслед за вещами старик и меня подсадил на воз, и я почувствовала, что хоть он и седой, а необыкновенно сильный: может не только на воз подсадить, но, если вздумается ему, подбросит как мячик под самое небо.
Волы шли ровно, такие послушные каждому велению своего погонщика. Так вот они какие, волы! С удвоенной почтительностью смотрела я на их огромные, могучие рога. И мне сразу вспомнилось, как мама говорила, что «отец наш работает как вол».
Отец удивился, что за нами прислали волов, а не лошадей. Старик объяснил, что на почте остались только две клячи.
— Еле ноги волочат, на них ничего не увезешь. Ехали так медленно, что по временам вставали с воза и шли пешком. Гитару, чтобы она не дребезжала, я несла в руке.
Отец расспрашивал старика о делах на почте, а тот, в свою очередь, интересовался:
— Как там с черным бароном Врангелем? Спрашивал и сам же отвечал:
— Навалимся всем миром, разобьем барона. Кого только не видели: и с усами кверху, и с усами вниз. Но нет хуже махнят.
То, что он говорил о Махно, о бандитах, я хорошо запомнила: у них черные знамена с нарисованными белыми черепами и костями. Тех же, кто «заразился» красным флагом — всех советских, — они расстреливают...
Побывали махновцы и в городке, куда мы путь держим. Три дня хозяйничали. Три дня не позволяли убитых похоронить. На почте несколько телеграфных аппаратов изрубили. Многое из того, что награбили — и зерно, и нитки, и граммофоны, и подушки, — кулакам роздали.
Таких чертей у нас еще не было. Ходят пьяные.
Золото и шубы ищут. А у самого Махно глаза, как у кошки, — рассказывал высокий старик. — Вначале все под гребешок подчистили, а потом где-то разбойничали и снова «в гости» приехали. Все попрятались. Вышли только, когда узнали, что на этот раз Махно приехал мириться с советской властью. Сам на телеграфе побывал, оттуда вел с Харьковом переговоры по прямому проводу. Телеграфисту Ваське Зыкову гармошку подарил. Тот низко батьке поклонился, ручку ему поцеловал и тут же «Яблочко» заиграл. Не верю я всем этим оборотням. Одно у них на уме — награбить да наубивать. Только и спивают: «Гоп, кума, не журись». Сейчас нет махновцев. Зато другие бандиты разгуливают.
Старик рассказывал, а сам по сторонам поглядывал, когда мы через Яр проезжали. А я думала: «Зачем же мы едем туда? Повернуть бы волов обратно. Дождались бы поезда с почтовым вагоном, когда он будет возвращаться в Харьков. Что ждет нас в городке?»
Добирались мы на волах до новой папиной службы двое суток.
Здание почты было просторным и светлым. Квартира тут же, при почте. Прямо напротив нашей двери — вход в аппаратную с надписью: «Посторонним вход запрещен».
Отец поручил мне распаковывать сундучок с вещами, а сам занялся установкой новых аппаратов, привезенных из Харькова.
В комнате было пусто.
Я обрадовалась, когда узнала, что каждый день с нами рядом будет широкоплечий, здоровенный дед. Он не только возчик, но и сторож.
Дед Кондрат принес две табуретки и высокую керосиновую лампу, точь-в-точь такую же, как у нас в Харькове. Он хотел и подмести, но я вырвала веник из его рук. Потом долго чистила стекло лампы.
В сарае почтово-телеграфной конторы было припасено много черного-пречерного угля.
— Антрацит! Горит жарко, только пироги печь! — похвастался дед.
«Вот бы такого угля маме да и сухих бы дров на растопку», — подумала я. А то ведь всегда перебирает она сгоревшие угольки, просеивает жужелицу через сито и снова в печь.
Очень хотелось, чтобы скорей пришел отец и повел бы меня в школу. «Хоть на последний урок поспею».
Но я так и не дождалась отца и вышла из дому.
У входа на почту висел огромный почтовый ящик с плохо замазанным царским двуглавым орлом.
Дома кругом белые-пребелые, будто их каждый день обливают молоком. И заборы — прочные, добротные — из белых плит. По ослепительно белым стенам плющом вьется дикий виноград. На солнцепеке побагровели его широкие листья.
По деревянному тротуару из двух досок я дошла до здания школы. Только подошла, как на всю улицу задребезжал звонок. Из широких дверей вывалились мальчишки и девчонки. На вывеске над подъездом было выведено: «Женская гимназия».
Я старалась заглянуть в окна и гадала: на первом или на втором этаже помещается класс, где буду учиться? С девчонкой или мальчишкой буду сидеть на одной парте? Разошлись школьники, тихо-тихо стало на улице.
Никогда я не видела таких черных галок, как в этом городке. Они перелетали стаями с забора на забор, с дерева на дерево.
И монахини, в черном одеянии, которые шли не спеша и не оглядываясь, напоминали галок.
На колокольне женского монастыря ударил большой колокол.
Разом взметнулись и галки и вороны.
Стало как-то тревожно; мне показалось, будто все смотрят в мою сторону. Я вернулась обратно и зашла в операционный зал почты.
Из окошка высунулась женщина с гладко зачесанными волосами. Она внимательно посмотрела и громко спросила:
— Как тебе, девочка, у нас понравилось? Тебя Галей звать? Тебя у гимназии видели. И я там училась. На вы пускном балу директриса меня при всех поцеловала. Наша гимназия славилась на всю губернию. Директриса обещала оставить меня классной дамой, а вышло так, что я за окошком сижу, как зверь в клетке. Не приведи господи служить на почте. А скажи, милая, как получилось, что мать отпустила тебя?
Я не ответила и подумала: «Откуда она все знает?»
Только потом узнала я, что зовут эту тетеньку Аничкой и характер у нее неуживчивый: не хотела жить со своими родителями, ушла в монастырь, а там повздорила с игуменьей и недавно поступила на почту. Живет же по-прежнему в монастырской келье.
В операционном зале висели плакаты и среди них знаменитый плакат: «На коня, пролетарий!» Сказочный Конек-горбунок нес всадника в красноармейской фуражке, с высоко поднятым клинком. Как пламя развевалось над ним красное знамя.
На другом плакате огромный красноармеец в буденовке занес над костлявой рукой врага сияющий меч: «Врангель еще жив! Добей его без пощады!» Если бы у этого красноармейца к старости выросла борода, он был бы вылитый дед Кондрат.
— Малявочке понравились эти картинки. Специально вывесили к приезду вашего папаши, — раздался надо мной сладкий голос.

Я обернулась. Рядом со мной стоял худощавый, в отглаженном костюме человек. Усмешка не сходила с его лица. Из кармана тужурки выглядывал шелковый платочек, а на шее бабочкой пестрел бант. Маленькие глазки его показались мне злыми.
Я ничего ему не ответила и выбежала из операционного зала. Это был Васька Зыков, который приложился к руке Махно.
Дома меня поджидал дед Кондрат. Он поставил на стол горлач топленого молока и две кружки, на которых лежали большие лепешки.
— Сейчас позову начальника. Он уж сюда заглядывал. Лепешки жена моя пекла, Христина Петровна. Живем мы с ней у самого большака годков тридцать, а то и больше. Она слободская, украинка, а я — москаль. Только никогда в Москве не был. Еще мой дед сюда от крепостного права
бежал. Вот с каких пор мы в бегах. Должно быть, потому я и на почту поступил, что здесь беготни много.
Я не помнила ни своего деда, ни своей бабки ни со стороны отца, ни со стороны матери, и до сих пор мне кажется, что дед Кондрат и жена его, тетя Христина, с которой познакомилась я позже, были моими родными: дед да баба.
Бывало, дед Кондрат начнет про лепешки говорить, а закончит крепостным правом. Волов понукает и тут же барона Врангеля заодно ругает. Только когда начинал дед о Христине Петровне говорить, с одного на другое не перескакивал.
Пришел отец. Он похвалил лепешки и рассказал, что уже наладил новый телеграфный аппарат «Клопфер» и уже несколько телеграмм на слух принял; скоро починит и аппараты, поврежденные махновцами.
На следующий день отец повел меня в школу.
Мы пришли задолго до первого звонка.
Отец говорил с учительницей, а меня окружили школьники. Они уже знали, что меня зовут Галей и что я из Харькова, а отец мой — новый «почтмейстер».
Один мальчишка кричал: «Галка, Галка, я тебе буду письма писать!», другой: «Галка, Галка, продай марку!»
Прозвучал звонок, и я пошла в четвертый класс.
Моим соседом по парте оказался Левко. Он тоже опоздал к началу учебного года. Приехал из Донбасса, где жил далеко от школы, а здесь школа и дом его тетки на одной улице.
Оказалось, что и из школы нам идти вместе. Я ему рассказала, что в Харькове жила рядом с заводом, где делают шахтерские лампы. Но Левко пропустил это мимо ушей.
— У тебя удочки есть? — спросил он меня.
— Нет удочек.
— Я принесу, пойдем рыбу удить. Я знаю такое место, от почты недалеко.
Очень захотелось пойти на реку, но я сказала:
— Мне надо печку растопить, обед сготовить.
— Верно, верно! — обрадовался Левко. — Как раз к обеду и рыбы наловим.
Не успела я и в комнатах прибрать, как в дверь постучал Левко. Он принес удочки, но в комнату не вошел, а остался стоять в коридоре.
— Что это там? — спросил он, показав на дверь с надписью: «Посторонним вход запрещен».
— Аппаратная.
— А какие там аппараты?
— Разные.
— Тебе туда можно?
— Я не посторонняя.
Левко даже вздохнул от зависти и дал мне удочку.
Огородами мы вышли к реке.
Как не похожа она на Лопань! Течет как-то медленно, тяжело.
Мы стояли на отлогом берегу, а на другой стороне реки возвышались скалы.
— Река с удобствами, — объяснил мне Левко. — Если тебе понадобится мел — на доске писать, пожалуйста! Видишь эти скалы? Чистый мел. Отломи и пиши. Смотри, и мы на мелу стоим.
Левко ботинком разгреб землю, и я увидела в черноземе белые крошки.
— Зато до червей здесь не докопаешься; я их в саду накопал.
Мы закинули удочки.
— Вода здесь невкусная, а рыба вкусная. Смотри! Смотри!
Я даже пошатнулась. Кто-то тянул меня в речку. Удочка треснула и переломилась.
— Сейчас уплывет! Ну и растяпа, а везет тебе!
С этими словами Левко прямо в ботинках прыгнул в воду. Он схватил конец отломанной удочки и вытащил крупного судака.
— Бери, он твой!
— Нет, твой. Сам сказал, что я растяпа.
— Растяпа не растяпа, а везет тебе. Только закинула и уже поймала. Это потому, что к обеду, чтобы отец долго не ждал, — сказал Левко.
Судак бился в моей руке.
— Так он у тебя опять в воду нырнет. Я уж тебе донесу. А ты азбуку Морзе знаешь?
— Знаю.
— Меня научишь?
— Научу.
— А не врешь?
— Не веришь — не спрашивай.
Мы расстались, и я пошла чистить рыбу.
Я всегда помогала матери, когда она с рынка приносила мелких карасей для борща. Этот же судак казался, по крайней мере, китом.
Отец уже получил паек, и я обваливала мукой куски «кита», так неожиданно приплывшего к нашему столу.
На этот раз я не звала отца, а он пришел и сам, как только вошел, сказал:
— Как вкусно пахнет! И хозяйка же ты у меня! Отец удивился жареной рыбе. Я рассказала ему о речке в белых берегах и о том, как Левко полез в воду.
— Папа, научи меня азбуке Морзе! Отец начал стучать вилкой по столу.
Несколько дней подряд точки и тире были как необходимейшая приправа ко всем блюдам, которые я готовила. Я уже хорошо знала: точка и тире — первая буква; тире и три точки — вторая буква алфавита; точка и два тире — третья... А, Б, В.
Так добралась я и до Э, Ю, Я.
А потом отец передавал целые фразы.
Как-то долго его ждала, огорчалась, что стынет борщ, а сел отец за стол — набросилась на него со всеми точками и тире.
Я выстукивала: «Наложу строгое взыскание».
Пока я справилась с этой фразой, борщ стал совсем холодным, но отец меня понял.
Запомнилось мне одно воскресное утро. Без конца лил дробный дождь. Серые неподвижные тучи со всех сторон обложили небо. Казалось, никогда не просохнет городок. А мне было хорошо в это утро. Отец позвал в аппаратную.
До этого я только со стороны следила, как у аппарата Морзе бежит и бежит узкая бумажная лента вся в точках и тире.
В то утро отец усадил меня на высокую табуретку, а сам стал рядом у аппарата.
— Ну вот хорошо, не наклоняешься в сторону. Прямей, прямей держись!
Отец положил мою руку на головку ключа. Я ударила ключом вниз. Моментальный удар! Отдельная точка! Отец как-то особенно отчетливо произнес:
— Раз, раз, раз.
Я в такт застучала.
Точки получаются. Сплошной ряд точек.
Считала про себя: «Раз, два. Раз, два, три».
Выбила две точки, три точки. За точками поползли и тире. Нажимала на ключ, считала медленно: ра-з! — выходило тире; быстро: раз! — выходила точка.
Потом без всякого счета, одна за другой понеслись быстрые точки и медленные тире.
Отец похвалил:
— Молодец! Еще одним дятлом больше будет!
Он сказал, что я удачливая. Ему, когда он учился, приходилось по ночам ждать часами, пока хоть на короткое время освободится аппарат.
Мне не хотелось отрываться от ключа. — Не горячись, а то руку собьешь,— сказал отец.
Я не чувствовала усталости, могла бы стучать и стучать.
Никто не вызывал нашу станцию. Будто из-за дождя не хотели тревожить.
Зато необычайно громко в тишине звучал голос отца. Он говорил, что телеграфист телеграфисту рознь. Самое главное — надо быть сосредоточенным, проворным, внимательным. Беспамятный человек вообще не может быть «почтельработником».
Хороших телеграфистов отец хвалил — за почерк! Вначале я не могла понять: какой же почерк, когда одни только точки и тире?
Отец же с уважением говорил о телеграфистах, которые передают «маком». У них мелкий/почерк, и они никогда не срывают точек. Особые же артисты работают «бисером» — дают 200 и больше знаков в минуту, быстро и четко. С восхищением вспоминал отец и знаменитых «сыпачей», быстро передававших громадные телеграммы для газет.
— Беда, когда приходится иметь дело на одном проводе с «ломаками» да «калеками»,— сокрушался отец.— Их сразу по почерку узнаешь. Все знаки у них длинные. Не передают, а спотыкаются. Потеряешь терпение и застучишь такому: «ННН» — «Долой!» Может быть, грубо, а справедливо. Не место «ломаке» у тонкого аппарата.
Отец рассказывал, а сам с тряпкой в руке ходил между длинными столами. Долго и тщательно вытирал пыль с «Клопфера» («Стучащий»), называл его «аппаратом с привычкой». Вставленный в маленькую будочку, сделанную из сухой березы, он рокотал гулко, прерывисто, будто в окна стучал град.
«Клопфер» не нуждается в бумажной ленте и пишущем устройстве. Его отрывистые звуки — точки, продолжительные — тире. Телеграфист-клопферист принимает их на слух, будто записывает под диктовку. На то он и «слухач» самого высшего класса.
Пока я принимала одну телеграмму на Морзе, клопфе-рист принимал десять.
Точки, тире, а отец относился к ним с нежностью.
— Они, дочка, живым языком говорят!
Долгие осенние вечера я списывала с книги не обычными буквами, а азбукой Морзе. Отец приносил старую телеграфную ленту, и я училась превращать точки и тире в буквы, слова и фразы. Он говорил, что не ровен час и я смогу ему помочь.
Я шла в аппаратную и, если там не дежурил телеграфист с бантиком и злыми глазами, привычно взбиралась на высокую табуретку...
Наконец я решилась дать первый урок Левко.
Выстукивала буквы карандашом по парте, потом взяла мелок в руки и начала чертить тире и точки на доске. Так увлеклась, что застучала им по доске, а мелок не выдержал настойчивых ударов и разлетелся вдребезги.
Я учила Левко, а Левко — других мальчишек.
Скоро ученики четвертого класса превратились в дроздов: ручки, карандаши, пеналы и даже крышки парт заменяли нам телеграфный ключ.
Учительница потребовала, чтобы мы прекратили «забаву». Если мы не прекратим стучать, она после уроков оставит весь класс «без обеда».
А мне отца кормить надо. Он у меня никогда без обеда не оставался. Готовила борщ и кашу — пищу нашу. Готовила, как мать учила. Раньше всего фасоль отварю: кипит борщок, а на сковородке у меня лук жарится, розовеет. В чугунке картофель «в мундире», на ужин.
Дед Кондрат сидит рядом и какую-нибудь «притчу» рассказывает. Слушаю, а сама на сковородку смотрю. Самое главное — вовремя заправить борщ луком.
Дед Кондрат ругал бандитов за то, что пьют они рабоче-крестьянскую кровушку; называл их то домовыми, то зайцами, которые шерстку меняют. Начнет про них говорить и рукой махнет с досадой.
А вот когда о конях рассказывал, его нельзя было остановить:
— Эх, видела бы ты, доченька, какие табуны были в нашем уезде! Видала на плакате скакуна? Будто с нашего конного завода. И у меня славный конь был. Началась война с германцем в четырнадцатом году, забрали моего вороного в армию под седло. Завел себе тогда другую лошадь, не на тонких ногах, а крепкую. А вот когда пришли немцы на Украину, погнали меня в подводы. Возил я то, что немцы грабили. У самого из печи церберы печеный хлеб вытащили, в хлеву свинью пристрелили. Под конец забрали и лошадь и телегу. Квитанцию от самого кайзера выдали, с гербом. На квитанции орел одноглавый, крылья растопырены, клюв кривой, а на голове корона. Хорошо, что я свои сапоги обмазал глиной, навозом да грязью, а то бы и без сапог остался. Квитанцию с черной птицей на ноги не обуешь! Вернулся я в хату без лошади, с одним кнутом.
Сказав это, дед задумался, посмотрел на меня как-то пронзительно, наморщил свой высокий, шишковатый лоб, а потом сказал совсем тихо:
- Вот, детка, много звезд на небе и солнце днем вовсю светит, а мы в своих хатах сидим в потемках, в свечах да керосине нуждаемся. Солнце-то, оно огнем дышит, а сколько еще в хатах нетопленых печей... Дед Кондрат даже глаза закрыл.
Я подумала: «Не выспался он, сейчас задремлет». Дед же вдруг рассердился и громко начал ругать деникинцев:
— Эти были еще хлеще. Пришла к нам в село бумага о том, что все, кто получил во время дележа от большевиков помещичью землю, должны уплатить помещикам аренду за все время существования советской власти. Когда отступать они стали, так муку и сахар по большаку рассыпали, лишь бы людям не досталось. Тикают они, а я пошел на станцию, думаю, может, завладею какой-нибудь худобой. Они, людоеды, из вагона коней выкидывали. Подошел я к такой лошади, встать не может, ноги сломаны. Так и остался я без коня.
У самой моей хаты бой был. Один белогвардеец с пулеметом залег. Другой, рядом с ним, с винтовкой. Третий, офицер, чуть подальше — в бинокль смотрит. Как начали красные по ним бить, они и пулемет бросили. Так тикали, что только пятки сверкали. Вот это был праздник! Ну, скажу тебе по совести, я все-таки в этой суматохе коньком завладел. Добрый такой конь, как заржет — сердцу радостно! Мы его с Христиной берегли-берегли, а потом я решил, что раз Красная Армия отогнала врагов от моей хаты, пусть устроит праздник на всем белом свете. Отвел я своего конька волостному военному комиссару и говорю ему: «Принимай в дар от безлошадного Кондрата в бедняцкую кавалерию!» Отдал я коня, а сам поступил на почту.
Дед Кондрат рассказывает, а отца все нет.
Сколько раз я звала его из аппаратной. Хотелось, чтобы он пришел к столу, когда от тарелки пар валит.
Отец часто любил говорить: «Только без замедления». Открою я дверь и его же словами зову: «Только без замедления!»
Приходил отец, дед Кондрат доставал из сапога деревянную ложку, и мы приступали к борщу «без замедления».
Когда начинала я белье стирать, отец появлялся без всякого зова. Ни я, ни отец стирать не умели. Терли белье как попало, но с усердием. Мыло было жидкое, зеленое. Мы лили его в корыто из железной банки. Трешь, трешь белье - вода вспенится. Даже стирать не хотелось, жаль было пузыри ломать.
Только отца позовут по срочному делу на почту, я и начинаю тут же, над корытом, над бельем, пузыри мыльные пускать, вспоминая при этом большеглазую Тосю.
Удивительно красивые получались: что ни пузырь, то шар воздушный! Под самый потолок летели, краски на них менялись, будто переливалась радуга настоящая. Я так увлекалась пузырями, что совсем забывала о стирке и не замечала, как снова отец входил, вставал у двери и тоже любовался пузырями.
Мне хотелось, чтобы он вместе со мной стал выдувать их из соломинки. Но отец заворачивал рукава, и мы продолжали стирать.
Не знаю, кто из нас был лучшей прачкой. Должно быть, отец.
Пришла я как-то из школы, достала пузырек с чернилами, скриплю пером, а за дверью слышу — кто-то на цыпочках ходит.
Так и есть — Левко! Пришел с удочками. А уж стало холодно. Отец запретил мне к реке бегать: если я башмаки промочу, не в чем будет в школу ходить.
У самых дверей натолкнулся отец на Левко. Тот и выложил все начистую: из двух дверей в коридоре влечет его дверь с надписью: «Посторонним вход запрещен».
Отец взял его с собой в аппаратную. Все ему показал.
Допоздна засиделся Левко. Домой побежал вприпрыжку.
— Смышленый у тебя товарищ, — сказал мне отец. — Слух развит и руки. Музыкант! И где это он только разузнал, что изобретатель аппарата Морзе, Самуэль Морзе, был художником, свою азбуку за одну ночь придумал и ему при жизни памятник поставили? Я этого не знал.
С тех пор Левко уже не боялся строгой надписи на двери аппаратной. Он приходил на почту без удочек и шел прямо к отцу. Он радовался, когда отец раскладывал на столе лист белой бумаги, доставал щеточки, ставил банку керосина и приступал к чистке аппаратов.
— Смотри не растеряй винты! — предупреждал отец.
Левко проверял прочность соединения аппаратов с комнатными проводами, зачищал до блеска концы и уже не спрашивал, «работает ли телеграф во время грозы», а тщательно протирал громоотводы.
Как-то во время урока он сидел за партой, подперев голову обеими руками. Я думала, что решает задачу, а Левко прошептал мне, покраснев:
— Я уже восемьдесят знаков за минуту передал.
Отец стал начальником почтово-телеграфной конторы, но, как и прежде, брал когти и надолго уходил из дому за линейного надсмотрщика.
Эта должность давно была свободной. Не было тогда в городке такого специалиста, который согласился бы по доброй воле бродить по шляхам.
У начальника почтово-телеграфной конторы не было другого выхода: сам не исправит повреждение, никто ему не поможет, и не с кого спросить.
Я запомнила слова из одной почтовой песенки:
Исполняй тут службы долг,
Это ль, право, не канальство;
Наседает в поле волк,
Ну, а в городе — начальство.
Начальство-отец наседал сам на себя, а на полях наседали на него не волки, а бандиты.
В долгие осенние ночи буйствовали над городком, погруженным во мрак, необыкновенно сильные ветры.
Проснусь я спозаранок. Ставни пропускают чуть белесый свет. Крыша под дождем сама с собой разговаривает.
Прислушаюсь и уже знаю: отца нет на койке. Он или в аппаратной, или на линии, под дождем и ветром. Натяну я одеяло и досыпаю свой седьмой сон.
Наконец и я оставляю постель. Открываю ставни и вижу сверкающие серебряные капельки отшумевшего дождя и на освеженных деревьях, и на проводах. Первым делом растапливаю печь и кипячу воду. Много надо успеть до школы.
Мне всегда хотелось, чтобы, возвращаясь, еще издалека отец увидел среди голубоватых дымков над крышами каменных, глиняных и меловых домов и мой дымок над почтой.
Как-то, помню, пришел отец и показался мне, как никогда, осунувшимся. Снял фуражку, а в волосах его и листья, и кора, и даже какие-то сучки. Одежда мокрая, хоть выкручивай.
Не стала я расспрашивать, а налила воды в таз, усадила отца на табуретку и давай намыливать ему голову. Он так устал, что сразу мне покорился. Вцепилась я ногтями в его голову, тру, не жалею, и кажется мне, что я уже совсем взрослая, а отец, хоть и седой, а маленький — согнулся над тазом, чтобы было мне сподручней ему голову мыть.
Начала я из кувшина его поливать, волосы прополаскивать, смотрю, он глаза открыл и улыбается...
Сколько раз просила я отца взять меня на линию. Он все отказывал. Скажу, что все уроки приготовила, все книги перечитала, а он: «Нет», и все просьбы напрасны.
Однажды, в воскресный день, когда после проливного дождя вдруг сделалось необычайно тепло — даже пар пошел от земли, и умытый, успокоенный городок весь засиял на солнце, — отец быстро собрался и меня позвал с собой.
Он взял когти и тяжелые круги линейной проволоки. Перекинул через плечо сумку, заполненную до краев всевозможными буравами, напильниками и плоскогубцами. Меня нагрузил веревками, изоляторами и даже крюками.
Мы зашагали вдвоем.
Отец далеко видел. Даже во время прогулок то и дело голову задирал кверху.
Вот он лезет на столб, меняет наспех поставленный, соскочивший с крюка, полуразбитый стеклянный «стаканчик» на фарфоровый изолятор. Обмотал его пенькой. Заодно начал протирать и другие чашечки.
Отец объяснил, что даже по самой легкой и безобидной паутинке ток попадет на столб, а с него уйдет в землю...
— Вот представь, дочка, передаешь ты тире, а в это время ветер раскачает ветку дерева, коснется она даже на мгновение телеграфного провода, и твое тире уйдет вместе с током в землю или в «точку» превратится. И примет соседняя станция на ленте что-нибудь нелепое. Это еще полбеды. А может быть, получится и правильное слово, только не такое, как в телеграмме. Вместо поздравляю «с чином» — «с сыном»; вместо «суд» получится «суп»...
Отец улыбнулся и запел:
Телеграммы заблуждаются
По неведомым путям,
Иль совсем не получаются,
Иль со вздором пополам.
Тут он увидел бумажного змея, запутавшегося в телеграфных проводах.
Змей с поломанными лучинками сморщился от осенних дождей, покоробленный и облезлый, такой жалкий со своим хвостом из потемневшей мочалы, болтался на проводах. Эта, такая безобидная, казалось бы, игрушка причиняет связистам много хлопот; змей, касаясь земли своим хвостом из мочалы или веревок, похищает с проводов электрический ток.
Пойдет дождь, намокнет хвост, и ток, вместо того чтобы побежать по проводам, уйдет по мокрому хвосту в землю.
Отец опять полез на столб и по-настоящему вознегодовал и на змея и на мальчишек, будто они произвели на свет и выпустили на волю, по крайней мере, удава. Попадись мальчишки под горячую руку, надрал бы им уши, даже Левко, если бы и он был среди тех, кто запустил бумажного «гада».
Отец рассказал и о тех, кто со злой лихостью открывает стрельбу камнями по изоляторам, перекидывает через провода камни на веревках, рваные башмаки.
Нет спичек, так они отбивают фарфоровые изоляторы, чтобы высекать ими огонь. У одного кулака в бане была сложена целая гора изоляторов: поддавал на них пар, как на банные камни, и парился.
Обрывают провода, белье на них сушат, собак привязывают. Кто только не тянется к стальной и медной проволоке! И отец, сжимая плоскогубцы в руках, все рассказывал и рассказывал о линейном хозяйстве.
— И все из-за войны. Как началась в тысяча девятьсот четырнадцатом году, нет ни ремонта, ни ухода. А сколько за эти годы спилили столбов! Повсюду пеньки торчат.
«Ну, столбы, — думала я, — когда-то были деревьями, а теперь стоят как истуканы.
Отец же каждый столб выслушивал, как врач больного: покачает, постучит. Горевал, когда подгнившие столбы издавали сильный треск. Вот-вот повалятся.
Отец выравнивал наклонившиеся столбы, утрамбовывал вокруг них землю камнями и ногами. Одни столбы давно надо заменить, к другим надо поставить подпорки.
Поржавела проволока, поломались изоляторы, ветви деревьев так разрослись, что цепляют за провода. Стерлись и выветрились условные надписи на столбах.
Столбы-то одинаковые, стоят ровными рядами вдоль дорог, но у каждого из них свой номер, как свое имя...
Давно мы вышли из города.
Тепло и сухо. Кругом желто-черный простор. Далеко-далеко провода разносят свой гул.
Снял отец фуражку, остановился передохнуть. Вытер лоб рукавом. Смотрит поверх проводов — в самую даль неба.
— А почему провода гудят? — спросила я отца. Он ответил не сразу.
— Гудят? — переспросил он, будто впервые узнал об этом. — Да, гудят! Гром гремит, зверь воет, птица поет, а они гудят. Привыкли мы к этому. Гудят и гудят. Гудят от ветра, но не только от ветра...
— И в тихую погоду гудят, — перебила я.
— Правильно, и в безветренные дни слышны. Здесь тихо, а где-то воздух сотрясается, может, земля колеблется... Для меня линия, как барометр: гудят провода резко, повышенно — так и знай, погода переменится. А вот дятлы не разбираются, зря по столбам стучат, — продолжал отец. — Все им кажется, что это не провода шумят, а в столбах, как в трухлявых деревьях, черви копошатся. Дятлы насквозь долбят столбы, укрываются в них. Сколько таких продолбленных столбов! Один убыток. Да и медведи не разбираются. Кажется им, что в столбе улей пчел жужжит; лезут, хотят столб опрокинуть, чтоб мед найти...
Представила я, как мишка столб обнимает, и рассмеялась. Провода, будто подслушали наш разговор, — гудели весело.
Отец опять внимателен, строг, сосредоточен. Пролет за пролетом.
Провода разговаривают и разговаривают. Только не понять в их гуле, где точки, где тире. Они слились в одну песнь.
Под столбами валяются оборванные телефонные и телеграфные провода. Отец подбирает их и вздыхает; он заметил, как над нами провисают провода. При ветре они схлестываются между собой.
Плохо, когда и слишком натянут провод — при первом же морозе уменьшится его длина и он лопнет. Отец лезет на столб, отсекает ржавую проволоку, перевязывает провода на изоляторах. А я разматываю линейный провод.
Отец зачищает концы. Вот уже новый линейный, — натянут, как огромная струна.
Отец обрезал ветки деревьев, касавшиеся проводов. В один столб ввертел новый крюк и насадил на него новые, блестящие, покрытые глазурью, изоляторы.
Всюду, где мы прошли, натягивались провода.
Ток бежит по телеграфной линии: у-у-у!
Провода гудят несмолкаемо, опутывают весь мир: проложены по дну океанов, связывают все города, все уголки, все адреса, всех людей. Идут телеграммы...
Мы возвращались домой. Отец зашагал быстрее. Он уже не мурлычет, а поет полным голосом. Идет не оглядываясь, а я чуть отстала, и мне дорогу перегородили гуси — целое стадо. Паслись перед хатой, а завидев меня, начали наступать, вытянув шеи: «га! га! га!»
Я обомлела, закричала. Отец обернулся и сразу же пустил в ход шест.
Мы снова идем рядом.
— Ты их не бойся. Пусть они тебя боятся. Ты вон какая большая, сильная, сколько отшагала! Они только важничают, кричат да хватают исподтишка. Осенью у них кровь играет. Дикие в отлет собираются, на юг спешат, а этим, дворовым, здесь зимовать. Ты возьми любую хворостину, иди и не бойся. Как только гусь вытянет свою шею да зашипит, замахнись — увидишь, как струсит, — наставлял меня отец. И тут же рассказал, как во время перелетов дикие утки и гуси с такой силой налетают на провода, что они обрываются.
Про гусей и хворостину — много сложено. Но я вспоминаю об этом потому, что осенью 1920 года отец учил меня, девчонку, не бояться не только гусей, но и тех, кто шипит и шкодит...
Возвращаясь с линии, отец начинал петь. Он любил петь и знал много песен. «Как это столько запомнить?» — удивлялась я.
Перед тем как начать арию, он всегда торжественно объявлял название оперы.
Я еще ни разу не была в оперном театре, но благодаря отцу хорошо знала и «Евгения Онегина», и «Фауста», и «Риголетто»...
Вернемся домой, растоплю печь, поставлю еду на стол, а отец, как бы ни устал, начинал вспоминать... И усталость как рукой снимало.
Рассказывал он, сколько сапог износил на разных дорогах. Вспоминал, как уже надсмотрщиком ходил мимо дома, где у самого телеграфного столба жила моя мама — Мару-ся; как она, первый раз завидя отца, насмешливо произнесла: «Это что там за кукушка на столбе?!»
Отец на этом столбе то и дело малярной кисточкой через трафарет надпись подправлял, обновлял; ухаживал за столбом и за мамой...
Об этой поре и мама мне как-то поведала, хоть и скула была она на такие воспоминания. Я увидела перед собой невысокую девушку... она откинула волосы, приложила ухо к телеграфному столбу. Течет то ровный, то смутный гул, звенит в дереве неведомый ручеек... Что загадать ей?.. Придет ли суженый? Как сложится жизнь?
Мне интересно было узнать, что было, когда я еще не жила на свете.
И отец много мне рассказывал — про первую революцию, про 1905 год. Даже трудно было представить, как это мой отец лазил тогда по столбам для того, чтобы не восстанавливать, а портить связь.
Вместе с рабочими на фабриках и заводах бастовали и почтово-телеграфные служащие. Парикмахеры и те не стригли, не брили. Конка не ходила. Извозчики не выезжали.
А мой отец, как всегда, взбирался на столбы и незаметно снимал перевязки с изоляторов, соединял провода с землей...
Я любила слушать рассказы отца о смелом большевике Артеме, о том, как в 1905 году водил он за нос всю харьковскую полицию, как скрывался он в палате душевнобольных на Сабуровой даче. Пальто и шляпа товарища Артема висели на вешалке, в то время как сам он, в халате больного, смешавшись с толпой больных, скрылся от полицейских.
Однажды, на той же Сабуровой даче, пришлось товарищу Артему лечь в гроб. Заколотили крышку и бесстрашного революционера вынесли в гробу, как покойника, мимо стражников. Отец рассказывал, как встретился он с Артемом на улице. Несмотря на холод, Артем был в одном пиджаке, а на голове синий картуз. Отец спросил его: «Не холодно ли?», а Федор Андреевич только рассмеялся и сказал: «От теплой одежды не польза, а вред».
Запомнила я и рассказ отца о Шаляпине.
Великий артист приехал в Харьков в тревожное время, когда на заводах шли сходки и харьковские рабочие боролись с фабрикантами. Шаляпин пришел на телеграф. Отец сразу узнал его и не постеснялся пожаловаться, что не может достать билет на его концерт.
Шаляпин написал отцу записку.
И вот в ожидании концерта отец зашел в Университетский сад. Там собрались студенты. Они запели любимую шаляпинскую «Дубинушку». И отец стал петь вместе со студентами. Откуда ни возьмись, появился околоточный надзиратель. Ему не по душе пришлась «Дубинушка». Он потребовал, чтобы студенты прекратили петь. Студенты не подчинились и запели еще громче:
Эх, дубинушка, ухнем! Эх, зеленая, сама пойдет!..
По приказу околоточного полицейские накинулись на студентов, начали их избивать. В этой перепалке отцу сломали два ребра. Давно это было, а отец до сих пор горевал, что не пришлось ему тогда побывать па концерте Шаляпина.
Вышел отец из больницы, а к проводам его не допустили. «Для пользы службы» послали на почту в «простой отдел» мешки таскать, письма сортировать. К нему придирались на каждом шагу, донимали «штрафными дежурствами» и все из-за того, что был он на нелегальном надзоре как «подозрительный».
Только после того как научился он передавать по телеграфу латинский шрифт и сдал экзамен, его вернули на телеграф. Но отца не привлекала латынь, и он снова стал надсмотрщиком высшего оклада, работал и на линии и в аппаратной.
— Все средства связи у меня здесь! — говорил отец и как-то благозвучно хлопал себя по шее, будто и там у него помещался телеграфный ключ.
...Письма из дома мы ждали, как и все «клиенты» почтово-телеграфной конторы.
Почта приходила два раза в неделю, и уже не по расписанию, а от случая к случаю. Все зависело от того, когда на станцию придет поезд.
Все чаще и чаще бандиты взрывали мосты, останавливали и грабили на шляху почтовые подводы.
Когда почта доставлялась благополучно, в конторе было оживленно. Почта приходила, но бывало, что на имя «натеконта» — одни только служебные пакеты. Как бы ни был отец погружен в работу, в глазах его отражалось беспокойство: как там, в Харькове? Днем об этом не проронит ни слова. А вот когда я готовилась ко сну, мы начинали вспоминать о доме. У нашей мамы золотые руки. Всех обошьет. И сажу вычистит в трубе, и печной под отремонтирует...
Отец корил себя за то, что не успел вставить в оконные рамы целые стекла.
— Сердце сердцу весть подает! — радовался отец, когда и к нам приходили письма со знакомым почерком.
За всех писала Лена. Каждый ее конверт напоминал вывеску. Особенно старательно она выводила нашу фамилию. Она ведь знала, как ценит отец хороший почерк.
Мать тревожилась: не едим ли мы всухомятку? Лена написала о том, что Сергей получил ботинки с обмотками и научился их так мотать, чтобы они не разматывались. Он — посыльный в штабе воинской части, что на Моска-левке. Подруга моя, Тоська Ефименко, очень исхудала... Мать то жалела, что отпустила меня, то требовала, чтобы я ела за двоих. В Харькове она все ворчала, а в письмах, что ни слово, то «родненькие» да «ангелочки». Ко мне мать обращалась не иначе, как «Галочка-коханочка», «Галин-ка — малинка моя».
В одном из писем Лена написала, что мама нанялась на Мыловаренный завод и со всеми делами справляется. Проездом у них был Алеша — муж Неонилы. Он тоже военный: служит старшиной в железнодорожном полку. Нила прислала маме теплый платок.
В ответ я писала им очень старательно, будто на уроке чистописания, и представляла, как почтальон, дядя Лепехин, с доброй улыбкой вручает наше письмо маме «в собственные руки».
Для Сергея я сочиняла что-нибудь смешное. Отец называл его «молодым казаченько», а я писала: «Казачень-ко, не запутайся в обмотках».
...Мне уже пора спать. Я знаю, что отец не ляжет, пока не побывает в аппаратной. А может быть, и сам будет дежурить всю ночь.
Бывало, притворюсь, что сплю, а он снимет со стены гитару, возьмет несколько аккордов, потом негромко, как-то задумавшись, перебирает тугие струны. На лбу его тонкая жилка, голова седая, лохматая.
Отец бренчит, а я засыпаю, и мне кажется, что начальник почтово-телеграфной конторы не на гитаре играет, а гудят под его рукой натянутые, певучие провода.
...Как-то я проснулась, когда в окна уже бил яркий свет. Кровать отца была застлана.
Быстро натянула платье и косы не переплела, решила поскорей заглянуть в аппаратную. Там сидел Зыков. Только хотела я узнать у него про отца, как он резко поднялся, посмотрел на меня в упор и спросил:
— Пардон, интересуюсь, ваш папаша коммунист?
— Комиссар! — выпалила я и обрадовалась, что такое внушительное слово вовремя пришло мне на язык.
Не было отца и в операционном зале. Не дождавшись его, я пошла в школу.
Подморозило; ветки деревьев и провода опушил иней. Дым из труб напрямик уходил высоко в небо. Было чисто, свежо. Но я хорошо знала, когда индевеют провода, тяжело тем, кто следит за бесперебойной связью.
В школе я поглядывала в окно: а вдруг мимо пройдет с шестом отец.
На переменке задумалась и начала вертеть глобус, что было запрещено, так как географию мы еще не проходили, а глобус стоял в классе как украшение.
«Должно быть, отец успел обойти за это время весь земной шар, — подумала я, — вернулся домой, затопил печку, кашу сварил...»
Только раздался звонок, возвестивший конец урока, как я стремглав бросилась в гардеробную. Домой не шла, а летела, размахивая полами пальто. Запыхавшись, открыла дверь.
Отца не было. Вспомнила, как мать не находила себе места, когда он долго не приходил.
Взглянула на часы. Так и не поняла — успокаивают ли они меня или дразнят? Через какое-то время снова на них посмотрела. Часы стояли.
Мне стало не по себе. А вдруг пояс подвел или встретился отец с недобрыми людьми?
Я схватила с этажерки отцовские рукавицы, быстро накинула пальто, зажала под локоть теплый платок и выбежала из дому.
По дороге забежала к Левко. Его тетка уговаривала меня побыть у них, отогреться. А я сказала ей, что не озябла и должна отнести отцу рукавицы — он их дома забыл.
— Пустите со мной Левко!
Тетка согласилась. Нахлобучила на мальчишку серый башлык, меня заставила платком покрыть голову и застегнула мне пальто на все крючки. А сама вышла нас провожать в одном платье.
Я знала, что отца беспокоил провод на Лисичанск. Между нами и этой станцией часто разрывалась цепь.
«Пройдем контрольный столб, а там наверняка отца встретим».
Мы не замечали верстовые, зато останавливались у каждого телеграфного столба. Конечно, здесь прошел отец и все подрегулировал. Провода от инея вытянулись, но не слишком. День потускнел, но тени еще казались синими. Потом и они почернели...
В это время я обычно заканчивала готовить уроки и принималась чистить стекло от лампы... Контрольный столб давно позади.
Левко почему-то начал мне рассказывать, что на меловых холмах у реки можно найти следы древних диковинных зверей. Но я не захотела об этом слушать.
Я спросила Левко: спускался ли он когда-нибудь в шахту вместе с отцом? Он оживился, кивнул головой и только хотел начать мне рассказывать, как я опять его перебила:
— Вот бы нам сейчас хоть одну шахтерскую лампочку, ее никакой ветер не задует, — сказала и издалека вдруг увидела: под столбом лежит шапка отца. Все оборвалось внутри. Подбежала, и отлегло. Я приняла за шапку примерзшие листья.
При нашем приближении, неприятно хлопая крыльями, с голых деревьев слетали вороны. Я подумала: «Не к добру», и сказала об этом Левко. Он рассердился:
— Кто тебе сказал?
Поднял камень и кинул его, встревожив целую стаю ворон.
«Кар! Кар! Кар!..»
- Раскаркались! — сказал Левко. И еще раз — хвать их камнем!
— Смотри в фарфоровый изолятор не попади, — предупредила я.
Он разглядел крюк с изолятором, ввинченный прямо в дерево. Висит «времянка». Отец всегда брал с собой полевой кабель. Значит, он где-то здесь, устраняет повреждение.
Мы побежали. Платок лезет на глаза. Я откинула. Уже ничего не видно. Будто навсегда перепутались и провода и веки.
— Степан Митрофанович! — крикнул Левко. «Но-вич!» — раздалось в морозном воздухе. Мы кричали вдвоем.
Что-то звякнуло наверху. Отец там. Его не видно. Слился с небом. Сейчас слезет. Можно не кричать.
Наконец я услыхала чуть хрипловатый родной голос, будто с проводов слетела долгожданная телеграмма:
— Галя? А кто с тобой? Левко? Сейчас, обмотаю проволокой расколотую верхушку и слезу.
Мы стояли у столба, подпрыгивая с ноги на ногу.
Отец слез и так нам обрадовался! Я протянула ему рукавицы.
Весело было возвращаться втроем. Ветер дул нам в спину.

Отец, подтрунивая над собой, рассказал, что утром, когда еще не поднялось солнце, его угораздило провалиться в глубокую яму под лед. Только тут я разглядела — обмерзшая куртка из бобрика торчала колом.
Мы задержались у контрольного столба. Отец быстро забрался, будто опять ушел в темноту.
Он слез со столба и радостно крикнул:
— В исправленном проводе есть ток!
Трудно было привыкнуть к нашим пустым комнатам и даже к собственному голосу. Он казался здесь каким-то резким. Ну, а потом, как водится: один день наступал на пятки другому и понеслась вереница дней.
Как бы поздно отец ни ложился спать, поднимался он рано, шел в аппаратную, и я знала, что он, засучив правый рукав тужурки, возится там с тряпками, приготовляет краску, чистит и смазывает маслом аппараты, проверяет цепи и их слышимость, дает пробу.
Я не ждала его к завтраку, а несла еду прямо в аппаратную.
Отец поручил мне собирать и хранить дождевую воду для заливки батарей.
В речной воде и в колодезной было много извести. Отцу нужна была самая мягкая, самая чистая.
Я осторожно обходила бесценное стеклянное хозяйство. Ведь в этих сосудах образуется ток — источник питания телеграфа. Как бы не разбить! Этим банкам и стаканчикам отец уделял особое внимание. Сыпал в воду мелкие синие кристаллики медного купороса, доливал в банки воду, добавлял какие-то незнакомые мне вещества.
Издали я всегда любовалась батареями. Они светились ярко-голубым цветом, а медная пластинка в небольшом стаканчике в первое время после заправки батарей сияла, как золотая.
Без одной минуты двенадцать часов дня; на телеграфных аппаратах прерывалась передача и ровно в двенадцать возобновлялась. Это проверялось время. И снова из аппаратов выбегала бумажная тесемка, а на ней точки и тире.
Я привыкла к городу, к новому жилью, к аппаратной, но все казалось, что куда-то движемся, хоть и не стучат колеса; мы в вагоне, то томимся на запасном пути, то мчимся без отдыха, без передышки.
Не только я, но и отец (хоть он ни разу прямо так мне не сказал) жили в каком-то ожидании: то письма из дома, то каких-то перемен, важных новых распоряжений, декретов; будто со дня на день что-то должно произойти.
Прочтет отец важную, громадную телеграмму и со мной поделится:
— Добрые вести, добрые. Еще несколько ударов по мировой буржуазии, и все бандиты полетят к чертям, как Врангель. Во всем мире, дочка, будет советская власть!
Отец ждал и верил: вот-вот вспыхнет мировая революция. Он говорил об этом и часто пел любимые им слова из «Интернационала»:
Лишь мы, работники всемирной Великой армии труда, Владеть землей имеем право, Но паразиты — никогда!
Отец мечтал о мировой революции и всегда при этом не забывал упомянуть телеграф и почту, которые соединяют и объединяют пролетариат, сближают и роднят всех людей.
Часто отец говорил о Ленине. Когда приходили газеты, всегда искал в них речь Ленина или декрет, подписанный Лениным.
Отец рассказывал, что, когда после ранения Владимир Ильич поборол смертельную опасность и начал выздоравливать, стали ему со всех сторон слать телеграммы, а Владимир Ильич, зная перегруженность телеграфной сети, запретил принимать и передавать на свое имя поздравительные телеграммы. Отец не раз повторял, что Ленин обо всех помнит, а о себе забывает...
Я уже знала, что ноты бывают не только для гитары. Отец с восхищением читал вслух ноты народного комиссара Чичерина французскому президенту — капиталисту Мильерану.
— Так и режет правду-матку, — понимающе поддакивал отцу дед Кондрат.
Дни становились все короче, а ночи — долгими и тревожными. Хотелось, чтобы поскорей настало утро; пусть будет день хоть сумрачным, зато все видно даже сквозь запотевшие окна.
Зима белая. А городок наш стал каким-то серым, почерневшим. Деревья голые. Плетни, сараи и ставни отсырели.
Когда дул ледяной январский ветер и стекла покрывались узором, я прислушивалась к шагам прохожих по
мерзлой земле. Шел мелкий снег; поземка заметала вытоптанные, обнаженные поля, а я продолжала слушать и ветер, и шаги, и лай собак.
Кругом сновали бандитские шайки. Не было от них ни проходу, ни проезду. Стреляли в спину. Поэтому-то мы так и прислушивались и к лаю собак, и к порывам ветра. Часто за лаем собак возникали то близкие, то далекие голоса, вопли, свист и улюлюканье.
Однажды меня разбудили глухие выстрелы. Будто совсем рядом прогромыхала по камням пустая бочка.
Босиком я подбежала к окну и прислушалась.
Вдруг откуда-то из темноты вырвался сноп огня и передо мной брызнули искры. Я отшатнулась и вздрогнула.
Перепугалась, а отца не разбудила. Пусть спит. И сама укрылась с головой, чтоб ничего больше не слышать. Засыпала, и казалось, что искры не погасли, а тлеют где-то за окном.
Как-то дед Кондрат развез корреспонденцию, вернулся на почту и рассказывает:
— Остановили меня бандиты. Один кричит: «Убьем!», другой: «Зарежем!», а третий: «Повесим!» Ну, а я им в ответ: «Делайте, люди добрые, как лучше: либо так, либо сяк, либо этак, либо так».
Дед наш никого не боялся. Огорчался, что какой-то Трошка, которого он когда-то из омута вытащил и из-за него махорку в кисете вымочил, подался в бандиты.
— Зря я его вытащил! Как это только мать сыра земля их носит?
Они приходили в городок то как богомольцы, то приезжали на базар, то проносились в пролетке с колокольцами, будто шумный и веселый свадебный поезд.
На почте было известно и о налетах на город, и о том, как бесчинствовали бандиты в соседних ярах. Обо всем этом каждый день без устали твердили телеграфные сводки: зарублены продармейцы, убиты из-за угла советские работники, разграблены обозы с мукой, подожжены зернохранилища и сельские Советы.
К нам в городок привозили убитых и хоронили в братских могилах под звуки духового военного оркестра. Несколько дней мы сидели совсем без хлеба, потому что бандиты разграбили склады.
Я часто не знала: идти или не идти в школу? То и дело отменялись занятия.
В почтово-телеграфной конторе «занятия» не отменялись, несмотря на то что многие служащие, ссылаясь на болезнь, перестали работать.
— У, саботажники! — ругал их дед Кондрат. ...Телеграфисту Зыкову не сиделось на месте. То и дело он выскакивал в коридор. Если увидит меня, обязательно ухмыльнется и начнет допытываться: почему мы с отцом в церковь не ходим даже по большим праздникам, почему у нас в комнате не висит образок, крещеная ли я, и ношу ли крестик?
Я тогда носила маленький крестик на шее: мне его мама надела, когда собирала в дорогу. Но мне не хотелось рассказывать об этом настырному телеграфисту. Я ему и ответила резко:
— Нет, не ношу! А он мне говорит:
— Я тебе золотой подарю.
И тут же пропел, что при царе и царице он ел паляницу, а при большевиках-коммунистах «нет и сухарика».
Зыков искоса на меня поглядывал, но больше «малявочкой» не называл.
Как-то отец долго ходил взад-вперед по комнате. Я уже знала, что он расстроен, и не приставала к нему. Он сам рассказал, что Зыков во время своего дежурста в аппаратной, вместо того чтобы принимать телеграммы, играл со своими приятелями в карты, не обращая внимания на сигналы вызова. Опомнились, только когда отец их окликнул, потребовал, чтобы Зыков немедленно прекратил игру, и отобрал у них игральные карты. Зыков не только не смутился, но стал отцу грубить и выговаривать: мол, дисциплина нужна была при старом режиме, а теперь свобода.
— Нечего учить нас коммуне! — сказал Зыков отцу, бесцеремонно запел: «Гоп, кума, не журись!» — и начал приплясывать.
После этого Зыков несколько дней не появлялся. А когда пришел, как ни в чем не бывало сказал отцу:
- Нам и старый режим — режим, и новый режим — режим: кто больше даст — тому и служим.
Отец стерпел и разрешил ему приступить к работе.
Со дня на день ждали новых телеграфистов из Харькова. Уже была получена «служебная» о том, что они выезжают. Дед Кондрат готовился к поездке на станцию «за подкреплением» да за новыми обещанными лентами.
Но шли дни и недели, а телеграфистов все не было...
Отец пропускал на «Морзе» старые ленты, используя их чистые края. Когда не стало краски, дед Кондрат подобрал свою бороду в смешной комок, полез на крышу и давай трубу чистить. Набрал в ведро сажи, а отец ее в керосине развел. Вот и краска!
Аничка всегда вовремя приходила на почту и почтительно раскланивалась не только с отцом, но и со мной, и с дедом Кондратом. Как-то она постучалась к нам в комнату, тихо подошла к отцу и, не глядя ему в глаза, рассказала, что Васька Зыков хвастался тем, что хранит письма лично от Махно. Про отца же, гуляя в одной компании, сказал, что «этот советчик от нас все равно не уйдет». И при этом даже рассмеялся. Аничка скривила лицо и показала, как рассмеялся Зыков: «Хо-хо-хо!»
Отцу это было неприятно слушать. Когда ушла Аничка, он сказал, что в каждом маленьком городке работает свой, особенный, электромагнитный «телеграф», по названию «сплетня».
Но не по этому телеграфу, а по многим и многим разговорам даже мы, школьники, знали, что на всех дорогах вокруг нашего городка действуют банды Каменюка, Колесникова и Варнавы. Особенно жесток дезертир, по имени Марко.
Колесников — бывший офицер, Варнава — кулак. На груди у бандитов царские ордена. Бывший офицер Колесников грозит перебить всех красноармейцев и советских работников. Говорили, что он носит серую офицерскую шинель с красными петлицами и с золотыми пуговками царского образца.
Какие это были долгие и напряженные ночи!
С разных сторон неслись по проводам к нашему зданию телеграммы, одна тревожнее другой.
Отец хотел приспособить деда Кондрата к телефону, но у него ничего не получалось. Он так и сказал: «Для меня этот коммутатор, как темное небо. Штепселя, как звезды. Не могу я пальцем в небо тыкать. И со звездами с этими мне не справиться».
Аничка охотно согласилась. Она быстро во всем разобралась и, соединяя абонентов, не путала провода. Это не то что штемпелем стучать. Она не кричала в телефон, а будто пела, стараясь понравиться всем неведомым ей людям. Когда к телефону приходили военные, Аничка сидела рядом и с восторгом слушала, как они решительно и настойчиво кричали в трубку:
— Юзовка! Юзовка! Говорит «Доля». Говорит «Доля»! Дайте Юзовку!..
Как-то Зыков не пришел на ночное дежурство. С нами был только бессменный дед Кондрат. Телеграммы летели со всех сторон. Приказы, распоряжения — и все по телеграфу. Сводка за сводкой: служебные, шифрованные, мобилизационные, продовольственные, транзитные. Как всегда, сыплются короткие и отрывистые фразы: «Поздравляем Акулину днем рождения», «Приезжай, ожидаю», «У нашей крошки прорезались зубки»...
Отец горевал, когда не все мог принять, не все передать. Многие телеграммы — в далекие слободы — нельзя было и доставить. Их принимали с пометкой: «Передать при первой возможности».
Отец предупреждал, чтобы я за телеграфом никогда не отвлекалась, а то вместо «Приезжай, ожидаю», может быть передано «Приезжай, умираю», а «крошка» превратится в «кошку».
Тра-тра-тра-та-там! — работает морзянка. Я за аппаратом. Отец включил аппарат «Клопфер». Принимает телеграммы на слух.
Ритмичные, чистые звуки заполняют комнату.
Вот отец выключил «Клопфер», сел за «Морзе», рядом со мной. На щите вспыхнули лампочки. Отец подбежал к коммутатору, принял телефонограмму и снова за аппарат.
Бьет быстро-быстро, так что и не уследить, как это ему удается так двигать пальцами. Он то передает, то принимает, следит за колебанием магнитной стрелки гальваноскопа — прибора, измеряющего силу тока, что-то записывает в журнале...
У телефона его сменил дед Кондрат. Дрожащей и неуверенной рукой вынимал и вставлял он штепселя, все время поглядывая на отца, так ли это у него получается.
— Вот и пришлось мне стать барышней!
Каждая секунда несет слово, несет весть...
Только раз, в минуту, когда смолк аппарат, отец положил голову на аппаратный стол, застыл так. Но тут же вскочил, откинул волосы со лба и прислушался... Сказал Кондрату:
— Опять вызывают помощь. Бандиты движутся на Калядовку. Изрубили сорок продармейцев.
В моем аппарате вдруг прекратился стук, и вместо испещренной точками и тире лента пошла совершенно чистая.
— Перехватили провод, — сказал отец.
Он ищет обходных путей, смотрит на гальваноскоп. И на нем замерла стрелка.
— Обрезали провод.
Но еще работала другая линия. Застучал «Клопфер». Отец закрыл глаза, стал слушать. Наша аппаратная напоминала в такие минуты догорающую, но все еще не гаснущую свечку. Отец сказал деду Кондрату:
— Нам одним не справиться. Оборвали прямой. Беги за Зыковым!
Старик заторопился:
— Живо слетаю! Мы остались вдвоем.
— Ну, что насупилась? — спросил отец.
Я схватила его большую руку и долго не выпускала... Стукнула дверь. Вернулся дед Кондрат:
— Не идет, саботажник, уперся и балагурит. Засунул руки в карманы и говорит, пусть Степан Митрофанович пришлет за ним тройку почтовых лошадей.
— Дочка, останешься с дедом. Обрыв устраню и вернусь, — сказал отец, спокойно поднялся и пошел ровным шагом.
Дед Кондрат крикнул ему вдогонку:
— Не тужи, Митрофанович!
Аппараты молчали. Холодок прошел по груди. Как справлюсь я одна, если вновь все застучат? Опять стукнула дверь, и в аппаратную вбежал Левко. Вбежал, прислушался, а потом уже развязал шарф. Он долго не мог отдышаться, так спешил. Оказывается, по дороге на линию отец забежал к Левко, разбудил и позвал подежурить на телеграфе.
Левко не спускал глаз со стрелки гальваноскопа. И мне как-то было радостно, что отец вспомнил о Левко в такой трудный и поздний час. И дед Кондрат не спускал глаз с папиного помощника.
— Бедовый малый! — сказал он. Помолчал, потом добавил: — Будет толк!
— Харьков! — вдруг во весь голос закричал Левко и бросился к аппарату.
Запели телеграфные струны! Застучал, забарабанил аппарат: точка, тире, точка, тире, тире, тире, три точки и еще, и еще...
Вскоре и отец вернулся.
Вслед за ним в дверях показался Зыков. Он был пьян. Вошел в аппаратную и громко крикнул:
— Здрасте! Пришел узнать: не получена ли на мое имя «молния»? А за тобой, н-н-начальник, должок, — сказал он, приблизившись к отцу. — Отдай колоду карт!
Дед Кондрат схватил Зыкова за шиворот, тряхнул его и молча вытолкал за дверь. Взял винтовку и стал у дверей аппаратной.
Я в это время наклеивала ленту на бланк и, облокотившись на стол, зевнула. Отец строго сказал, чтобы без замедления пошла спать.
Спал городок, а окно аппаратной светилось до утра.
...О чем только мы не говорили с Левко по пути из дома в школу, а из школы — домой!
Мне в школе дали прозвище: «Дочка — тире точка». Я не обижалась, знала, что это придумал Левко.
Как-то в марте Левко сказал мне, что весна уже рушит лед на реке, и пояснил, что это стараются щуки, разбивают лед хвостами.
Шел урок.
Разве можно сейчас вспомнить, какое мы постигали тогда правило? А вот выстрелы, от которых задребезжали окна, помню как сейчас.
Захлопали крышки парт. Все мы бросились к окнам.
Наш класс помещался на втором этаже, и нам хорошо была видна улица. Люди бежали к монастырю, чтобы укрыться за его толстыми стенами. Они бежали, прижимаясь к заборам, втягивая голову в плечи.
Улица у здания бывшей женской гимназии была вы-
мощена булыжником. Мартовское солнце уже высушило мостовую. Под самыми окнами раздался цокот копыт, гиканье и свист. Бандиты пронеслись мимо. Мне запомнился один из них, в черной свитке, с растрепанным длинным чубом, за поясом торчали два нагана.
Учительница сказала, чтобы мы оставили класс и вышли в коридор. Все выбежали и из других классов, заполнили коридор и лестницу. Но из парадного никого не выпускали.
Вдруг кто-то начал усиленно стучать в дверь. Из окна на втором этаже увидели, что это доктор Мирер. Все в городе знали и любили доктора. А жил он совсем один. Его сразу впустили.
Он рассказал, что громилы пришли к нему еще до стрельбы. Обобрали начисто. На докторе было какое-то рваное, короткое пальто. Он стоял без шапки, худой и лысый, не мог говорить тихо, его голос и грудь клокотали:
— У меня в кабинете они рвали книги и приговаривали: «Это нам не надо. Мы неграмотные». Один кричал: «Где прячешь золото?! Отдавай золотые зубы, не то застрелю в голову!» Я откупился от них часами.
Только тут мы увидели, что доктор босой.
— Стащили ботинки и носки. Зачем им мои носки?
Доктор Мирер рассказал, что среди бандитов усердствует одна женщина, в голубой шали; в одной руке у нее револьвер, а в другой какая-то бумага... И еще доктор сказал, что у бандитов на телеге пулемет и знамя, на котором написано: «Сыны обиженных отцов».
Доктор пришел в себя, но его рассказ переполошил нас всех.
— Дети, успокойтесь, — сказал он. — Я бежал сюда и видел: красноармейцы цепью на них пошли...
Когда я снова услыхала частые и громкие выстрелы, мысли вихрем закружились в голове. Я сказала Левко:
— Надо бежать на почту. Вдруг отец там один. На почте много денег. Бандиты любят деньги.
— Мы уйдем отсюда незаметно, — ответил Левко. — Я знаю такое место. Пролезем под забором, пойдем не улицей, а огородами.
Он взял меня за руку, и мы протиснулись среди ребят, толпившихся на лестнице. Вот и первый этаж. Левко провел меня через кладовку к окну, открыл его, и мы выско-
чили на двор. Вот и дырка в заборе, за ней какие-то мокрые, почерневшие грядки. Мы поползли, приподнялись, побежали, перелезли через какой-то плетень, всполошили кур, перемахнули через каменную ограду... Ползли, припадая к земле. Я расцарапала подбородок, встала и побежала, боясь отстать от Левко.
Мы вздрогнули, когда совсем рядом прозвучал залп.
— Ложись! — крикнул Левко.
И я упала на землю, зажмурив глаза.
Мне показалось, что рухнула огромная стена и в темноте бегают, вспыхивают и гаснут огненные иглы. Хотела привстать, но Левко стукнул меня ладонью по спине:
— Подожди.
Не знаю, сколько прошло времени, пока мы лежали. Никогда еще так близко я не слышала выстрелов; мне трудно было понять, что происходит вокруг, страшно было открыть глаза.
Наконец Левко сказал:
— Бежим к забору!
Он подсадил меня и сам перемахнул через забор. Я неловко спрыгнула, подвернулась нога, почувствовала боль.
Зато мы оказались на улице у самой почты. Сразу бросились в глаза перепутанные телефонные и телеграфные провода, валявшиеся на земле.
У входа на почту, на ступеньках крыльца, лежал человек с непокрытой головой, широко раскинув руки. Такой знакомый мне шишковатый лоб, изборожденный морщинами.
— Дедушка! Дедушка! — закричал Левко. Дед Кондрат не шевелился.
Мы побежали через пустой операционный зал. Я замешкалась, потом рванулась к аппаратной, закричала:
— Папа! Папа!
Дверь в аппаратную была полуоткрыта. В нескольких местах она была пробита пулями и покорежена. Никого нет. Молчат «морзянки».
Я обрадовалась, когда услышала человеческие голоса в нашей комнате. Кто-то навстречу открыл дверь, и я увидела отца на кровати. Он лежал на правом боку. Глаза полузакрыты. Лицо вытянулось... Губы бледные-бледные.
Отец вздрогнул, будто узнал меня, силился что-то сказать, но вместо слов с губ его сорвался только стон. Над ним склонились красноармейцы. Один из них развертывал бинт.
Левко крепко сжал мне руку:
— Он жив, жив! Не кричи, не плачь, напугаешь.
Мы стояли у стены и молча следили за каждым движением красноармейца.
К отцу подошел командир. Он сказал:
— Спасибо вам, Степан Митрофанович, от имени революции.
Отец что-то пробормотал в ответ.
Красноармейцы тихо переговаривались между собой:
— Пуля застряла, отстреливался... Левко выпустил мою руку:
— Нельзя терять ни одной минуты. Я побегу за Ми-рером.
Даже во время грозы моя мать молилась. Я ушла в другую комнату и упала на колени. Будто рядом со мной молилась и мама. Я повторяла:
— Господи, не отнимай у меня папочку! Не отнимай! Не отнимай!
Кто-то поднял меня с колен и тяжело вздохнул.
Красноармейцы, снявшие фуражки, расступились, пропуская меня к отцу. Тут я поняла, что бог не внял моей молитве.
Отец умер.
Мне говорили какие-то слова. Я слышала их издалека и не понимала, о чем это говорят люди. Я не знала, что им отвечать, куда идти, как двигаться, как буду жить без паны...
Крик застыл в моем горле, а подбородок вздрагивал.
Совсем рядом услыхала я пронзительный женский вопль. Будто вырвался он из моего сердца. Это была Христина Петровна — жена деда Кондрата.
...Они лежали рядом: отец и дед Кондрат. Закрыты глаза. Сжаты губы.
Помню, пришла тетка Левко, принесла нам что-то поесть, но мы так и не дотронулись до еды. Христина Петровна крепко прижала меня к своей груди и подвела к постели. Я упала на подушку. Но и во сне мне чудились шаги отца. Он идет и идет, убыстряя шаг...
Когда я проснулась, увидела Левко. Он сказал, что красноармейцы уже восстанавливают связь. Я подумала: «Восстановят — первым делом надо отправить телеграмму маме».
Не сберегла! Не сберегла!
После похорон меня подозвала учительница, предложила жить у нее, пока не приедут за мной из Харькова.
И тетка Левко звала к себе. Какая-то совсем незнакомая женщина тоже приглашала и, утешая, говорила, что, если мать моя жива — я не сирота, а только полсирота.
Я со всеми соглашалась, а сама не спускала глаз с Христины Петровны.
Аничка потащила ее в монастырь.
Она пошла, и я за ней.
Вспомнила телеграфиста Зыкова, который все удивлялся, почему мы с отцом не ходим в монастырскую церковь даже по большим праздникам. И вот я в церкви, только без отца.
Монахини в черных платках молились, поминали за упокой, продавали свечи и просфоры. Монотонно читал поп, а своды всю долгую службу громким эхом вторили его тихому голосу.
Аничка шептала мне:
— На каждой молитве поминай отца.
Она подвела тетю Христину к большой иконе в серебряном окладе и затеплила свечу.
— Матушка царица небесная, — громко произнесла Аничка. Широко крестясь, она зашептала мне в самое ухо: — Дочерины слезы святые. Плачь, плачь, легче станет. Угодники божьи, они все видят.
Я опустилась на колени, как тетя Христина, но не поминала отца, не плакала, как требовала Аничка. Озираясь по сторонам, смотрела то на сгорбленных нищих, увечных, то на пламя свечей перед иконостасом. И невольно, так же, как и молящаяся рядом, крестилась, а сама думала: «Бог совсем не милосердный, не услышал мою молитву и отнял у меня отца».
Так хотелось скорей подняться с колен, но тетя Христина застыла. Она смотрела в упор на богоматерь всех скорбящих строгим взглядом, о чем-то вопрошала ее. Со стен на меня смотрели угрюмые святые старики и летающие ангелы с одинаковым безучастным взглядом. Рядом, с усердием, касаясь лбом каменных плит, отбивала поклоны Аничка. Она исступленно твердила:
— Господи Иисусе, пошли свою милость!
Тетя Христина дождалась, пока поп упомянул новопреставленного раба божьего Кондрата...
Мы неслышно вышли из церкви. Тетя Христина купила просфорки, мелко закрестилась и что-то сунула нищим, стоявшим на паперти.
Аничка и здесь не оставила в покое. Она затащила нас к себе в келью. Маленькое окно в массивной, каменной стене скупо пропускало свет. В полумраке Аничка казалась выше обычного. А тень тети Христины не уместилась на белой стене и упиралась головой под толстый свод.
В келье было жарко и тесно. Вышитые занавески и даже подзоры на большой кровати пахли ладаном. В углу, у пожелтевших икон, на цепочке спускалась синяя прозрачная лампадка.
Аничка опять упала на колени и начала бить поклоны. Поднялась и громко сказала:
— Жаль, жаль мне начальника. Неотпетым остался. Они, неотпетые, убиенные, из гробов встают.
Потом она деловито взяла гребешок и начала расчесывать волосы. Меня притянула к себе, хотела смазать репейным маслом, но я вывернулась, ничего ей не сказав.
Тетя Христина сидела молча.
На постели Анички лежали подушки, а сверху на подушках — гитара отца. Аничка продолжала говорить:
— Это тебе, дитятко, господь послал свою милость. Гитару я спасла.
Она схватила гитару и так прижала ее, что звякнули струны.
Аничка предложила нам остаться у нее и, хотя до ночи было еще далеко, начала торопливо взбивать большие и маленькие подушки, поправлять перину. Полетел мелкий пух. В горле першило от духоты, от пыли, от Аничкиной суеты.
Тетя Христина как-то вопросительно вдруг на меня посмотрела. Я схватила ее за руку и потянула к двери.
— Гитару, гитару возьми! — совсем не молитвенным голосом крикнула Аничка и ткнула меня гитарой так, что я пошатнулась и ударилась о ключ, огромный, как кочерга, оставленный в замочной скважине.
Тяжелая дверь медленно заскрипела, будто не хотела нас выпускать, наконец захлопнулась за нами, и я с облегчением вздохнула. Дневной свет резанул глаза.
Теперь уже я вела за собой тетю Христину. На площади еще толпились люди. Над свежей братской могилой поставили не крест, а красное знамя. И мы постояли молча. Потом пошли на почту.
У входа на почту стоял красноармеец с ружьем. Но он нас не окликнул, а как-то виновато посторонился. Когда вошли в коридор, кто-то выглянул из аппаратной, посмотрел на нас и поспешил обратно. В этих пустых, высоких и прохладных комнатах я так часто ждала отца. Я села на стул, задумалась, старалась что-то вспомнить. А тетя Христина начала убирать, переставлять стулья, что-то двигать...
Вошел Левко. Он узнал в аппаратной, что мы пришли. Он сказал мне, что показал связистам, где отец спрятал запасные батареи. Сказал, что моей маме отправили служебную телеграмму в Харьков. И факт смерти заверен. Так нужно.
Я плохо понимала, о чем это говорит Левко. Тетя Христина молча собирала в узелок разпые вещи, а мне казалось, что отец напоминает ей взять гребешок, достать рубашку, чулки и теплый вязаный платок.
Не помню, как свалил меня сон.
Вскочила на рассвете.
Тетя Христина уже была на ногах. Перед тем как покинуть здание почты, она пошла в сарай, где стояли волы. Сонные, они что-то жевали, медленно посапывая. Тетя Христина бросилась к ним, а одного обня ла за короткую шею... Волы словно проснулись. Они удивленно смотрели на нас своими ясными глазами.
Тетя Христина повязала меня теплым платком, взяла в одну руку узелок, а в другую бутылку оливы — деревянного масла; мне дала гитару, завернутую в скатерть. Свою голову закутала черным платком, завязала его под подбородком. И мы вышли.
На улице было безлюдно и свежо. Утренний ветерок пахнул дымом, и странно было слышать, как птицы щебечут на голых деревьях.
Женщина вышла белить мелом дом. Что она так смотрит на нас? Я вспомнила, как у нас на Газовой во время гаданья цыганки обязательно приговаривали: «Предстоит тебе перемена в жизни». Я прислушалась к проводам. Они стремительно убегали вперед, гудели то настойчиво, то протяжно и тоскливо...
Ушла по проводам и служебная телеграмма в Харьков «с заверенным фактом» на имя мамы. Мама при людях никогда не плакала. Что станет с ней, когда придет телеграмма? Мне хотелось идти и идти, лишь бы идти; по столбам дойти до Харькова и броситься к маме.
Мы спускались с горы. Тракт изгибался и исчезал в утренней дымке. Как с птичьего полета виднелись крыши строений, канавы, заполненные талой водой, черные бугры и косогоры.
Когда отец работал в высоте, ласточки слетали с проводов, а сам он, насаживая изоляторы на крюки, насвистывал и пел, наслаждаясь прозрачным воздухом и весенним небом.
Я вспомнила, как он говорил: «Хорошо! Снизу земля, сверху небо, а с боков продувает!»
Вот и сейчас, он будто машет нам рукой.
Небо совсем голубое. Мягкий ветерок сушит землю. Все журчит и булькает — поет вода. Черные проталины слились в простор. На свеже-чер-ной земле выступает прошлогодняя зелень.
Слишком греет платок. Я сняла его. Перестала озираться по сторонам и шла шаг в шаг с тетей Христиной. Какая она высокая, крепкая! И волосы у нее гладкие, черные. Глаза черные. Она мне еще раньше сказала, что с дедом Кондратом они однолетки. Значит, Христина не «тетя», а бабушка. Но какая же она бабушка? И я подумала, что дед Кондрат казался таким старым только из-за серебряной бороды.
В высоте, на лету, уже пел жаворонок. Тетя Христина прислушалась. Она сказала:
— Это он весну закликает.
Шли мы долго, останавливались около каждого мостика на шляху. Вода была совсем близко, черная, мутная.
Степные речки были так похожи на нашу Лопань, которая лишь по весне была всамделишной рекой.
Показалось мне, что легкая гитара не так уж легка, как тетя Христина сказала:
— Аж он там под вербами наши хоромы.
Кивнула мне головой, улыбнулась, вздохнула и тут же заплакала.
На дороге нам повстречались дядьки. Завидя нас, они сняли высокие шапки. Тетя Христина поклонилась им в ответ, выпрямилась, поправила платок и молчаливо зашагала к своей хате, освещенной солнцем.
Хата показалась мне очень знакомой: такие же два оконца, как у нас дома на Газовой, только нет ставен и сверху домик придавлен высокой соломенной крышей, будто мальчишка надел на голову огромный картуз с чужой головы.
Нас завидели две девчушки, молча посмотрели, потом разом побежали в дом, и не успели мы еще подойти к приступке Христининой хаты, как сестры-девчушки снова показались на улице. Они держались за подол матери и тянули ее в нашу сторону.
Христина опустилась на лавку, и я, сняв пальтецо, присела на край скамейки, не выпуская из рук гитару.
Хата быстро наполнилась людьми.
Тетя Христина сняла платок, опустилась на колени перед иконами и громко закричала:
— Ой, лышенько, люди добри, загубили вороги ясна сокола!
Женщины заголосили.
Мне захотелось заткнуть уши и сразу убежать отсюда, но тут я увидела, как рослый босой парень, в белой рубашке, подпоясанной веревкой, не обращая внимания на крики женщин, с восхищением смотрит на гитару.
— Бандура? — спросил он. — Дай подержать.
Он сел рядом, бережно положил завернутую гитару к себе на колени, а потом не утерпел, развернул ее и опять сказал:
— Ну и бандура!
— Гитара, — поправила я парня.
На большой, выструганный стол женщины ставили разную еду. А кудрявый парень нетерпеливо провел рукой по струнам.
Все сидевшие за столом наперебой стали просить:
— Сыграй, Витенька!
Он покраснел, как-то неумело перевернул гитару, будто боялся ее уронить, и, чуть шевеля пальцами по струнам, запел:
Не жаль мне серых волов С крутыми рогами, А жаль мне чумаченька С черными бровями.
Витенька пел, а женщины-поселянки, подруги Христины Петровны, ему подпевали; кто плакал, кто смеялся, вспоминая деда Кондрата.
Витенька все пел и пел, неумело бренча по струнам.
Тут я узнала, что он племянник тети Христины — сын ее сестры, тети Мотри, тоже крупной и большерукой. Она больше всех хлопотала за столом.
Одна женщина посмотрела на меня, вздохнула и спросила Христину:
— Девчонку привела. А чем кормить будешь? Виктор прислушался и перестал бренчать.
— Земля всех кормит и поит, — вступилась тетя Мот-ря. — Девчонка грамотная!
— Что людям, то и нам, — ответила Христина Петровна.
Виктор громкой песней перебил разговор...
Когда гости ушли, тетя Христина раскрыла двери настежь и начала прибирать в хате: вымыла начисто стол и лавки, собрала горшки и миски. Большое красное солнце осветило печь и чугунки. Даже в кадке заблестела
вода.
— Такая моя, видно, доля. Тяжко мне. Нехай тяжко, а жить надо, чтоб вороги не смеялись, — говорила тетя Христина.
Вечером тетя Христина зажгла фитилек. Фитилек был из тряпочки, прокипяченной в воде с золой, плавал он в блюдце с подсолнечным маслом. Выходит на край блюдечка и горит, как свечка. Только надо следить за тем, чтобы он не потух, и время от времени выдвигать его на край.
Спичек не было, зато в печке все время тлел уголек. Приложишь к нему паклю, раздуешь, вот и огонь. А если затухнет в печке, на помощь приходило «кресало» — кусочек стали. Приложишь к кремню вату собственного изготовления из стебля высушенного подсолнуха, бьешь кресало о кремень, пока ватка загорится от искры.
И соседки тогда с железным совком бегали друг к другу за огоньком. Смотрела я на пламя фитилька и задумалась... Тут и вспомнила, что нет у меня здесь ни карандаша, ни бумаги.
Тетя Христина полезла на запечек, где рядом с кресалом лежал огрызок карандаша, достала сверток бумаг деда Кондрата, разыскала чистый лист, пододвинула к столу высокую табуретку, усадила меня, а сама села напротив.
Я взяла карандаш, начала писать слово «мама», рука у меня задрожала, заплясали знакомые буквы. Опять все затуманилось, а потом увидела перед собой маму. Она и говорит мне: «Я и так, доченька, все сердцем чую, что ты хочешь написать».
Я вопрошающе посмотрела на тетю Христину, Она сидела на лавке, правой щекой оперлась на руку и, увидя мой взгляд, сказала:
— Напиши маме, чтоб она о тебе не беспокоилась; напиши всем родным, что ты жива и здорова; напиши, что я тебя в обиду не дам.
Я долго, долго сидела за листом бумаги. Так и не смогла написать письмо.
Написала его только через несколько дней, когда уже свыклась и с хатой, и с тетей Христиной.
Встанет на заре тетя Христина, все обмахнет веником, сор сгребет, уберет чисто-начисто, развесит рядно на солнце. То в большом чугуне холст красит, то стирает, полощет, то веревки крутит... И я вместе с ней месила глину, помогала белить хату.
У двери и окон тетя Христина краской из сушеных цветов лиловой мальвы провела тоненькую полоску.
Смазали мы глиной и земляной пол в хате. Тетя Христина все ворчала, будто ждала, что вот-вот у хаты остановятся волы и дед Кондрат войдет в сени, поставит в угол кнут.
То и дело тетя Христина вспоминала о нем:
— Мы воров не боимся; в сторожа Кондрат пошел, значит, дома нечего было сторожить.
И каждый раз добавляла:
— Худого слова от него не слыхала.
Я стала тенью тети Христины, всюду за ней тянулась. Вместе с ней плела веревки, носила корм овечкам, у колодца, обложенного камнем, тянула журавель с полным ведром воды, собирала кизяк для топлива, пушила грядки на огороде. И так нравилось мне, когда тетя Христина учила:
— Пуши землю, как подушечку; перебирай комья, как перья в подушку.
Мы работали на огороде, а на нас смотрел смешной дед. Еще при жизни деда Кондрата соорудил его на огороде озорник Виктор. Подпер баштанному деду руки в бока, взлохматил волосы и бороду из пакли приделал — не козлиную, а окладистую, такую же, как у Кондрата.
Дед на Виктора не обижался и даже похвалил за выдумку.
Баштанный дед отваживал воробьев и смотрел на нас подбоченившись, будто приказывал не горевать и не терять весенний час.
Утренники были холодными, как студеная вода. Но поднималось солнышко, и наступала теплынь.
К солнцу тянулись зеленые травинки, кудрявились кусты. Зацвели терн и черемуха. У самой хаты росли широкостволые вербы, на них уже развернулись почки.
Помню, пошел дождь и я выбежала из хаты, подставляя голову крупным каплям. После первых теплых дождей, на полном солнечном свету еще ярче зазеленели листочки и с упоением распевали хлопотливые скворцы.
Окна нашей хаты выходили на широкий шлях, на старый почтовый тракт. Мимо хаты возчики и нарочные доставляли почту в соседнюю большую слободу.
Виктор рассказал, что когда-то здесь проходила чумацкая стежка. Его родной дед «наймитом» ходил с чумаками; ходил в Крым за чужими возами, привозил оттуда соль и тараньку.
Он показал мне огромный старый походный чумацкий воз со сломанными оглоблями, лежавший на земле за сараем, рядом с зимними дровнями.
Мимо нашей хаты, самой крайней в слободе, целый день скрипели возы и шли прохожие.
Вначале меня удивляло, как это тетя Христина по-разному с людьми разговаривает. Всю жизнь прожила она у проезжей дороги, на перекрестке шляха и проселочной. Одним сама ковш воды вынесет или в хату позовет, скажет:
— Хмара идет, к дождю, ходимо до хаты!
А на других и не посмотрит, слова не вымолвит. Насупится, станет у двери — вот и от ворот поворот!
— На битом шляху разные люди бродят, злые и добрые.
Тетя Христина была неграмотной, но людей по глазам читала. А кроме того, приметам верила. Бывало, запоет курица петухом, никого из чужих людей в хату не пустит. Упадет ложка, а она уверяет, что это к нам «жинка» спешит.
...Ведь уже давно пришло в Харьков письмо, а ответа все нет.
Чудилось мне, что это не возы скрипят под окнами, а пролетка грохочет по Москалевке...
Так хотелось мне заглянуть в шар, выставленный в аптеке, хоть на минуту оказаться дома, книжку почитать. Ведь не могли же родные меня забыть и не ответить.
Выйду я на порог хаты и прислушиваюсь, не едет ли почта.
Вместо деда Кондрата почту возили теперь разные люди. А письма все не было.
Провода на столбах гудели не для меня.
Тетя Христина успокаивала, говорила, что не может моя родителька пуститься в дорогу в нынешнее время. Поезда плохо ходят, или пути разобраны. Бандиты всюду хуже черных гадюк.
Среди проезжих и пеших бывали и люди из города. Они приезжали за хлебом, за салом. Взамен предлагали спички, мыло, зажигалки, иголки... Один мужчина топоры привез. Все они говорили о том, что тяжело сейчас в Харькове, в паек по четверть фунта хлеба дают, а сухая ложка рот дерет.
Однажды увидели заезжие люди на Христине Петровне сорочку вышитую и спрашивают:
— Ниток не надо ли — вышивать?
— Надо, надо! — обрадовалась тетя Христина.
— Давай сменяем?
— А на что ж менять?
— Можно на яички.
— На яички можно, — говорит тетя, — та горе, бо ку-рей нема.
— Ну на пшено.
— Пшена тоже нема.
Так, значит, не надо ниток?
— Должно быть, не надо,— сказала тетя Христина и вздохнула.
Приезжие пошли в другие хаты.
Нас выручала крапива с кислыми бураками. Ели мы и цикорий. А затирку тетя Христина ставила на стол все реже и реже. Мука подходила к концу. Но тетя не жаловалась, говорила, что нам хорошо, еще с голоду в кулак не трубим.
Мы перестали зажигать свет по вечерам, ложились пораньше, чтобы не «портить свитло».
Я засыпала и каждый раз себя спрашивала: приедет или не приедет завтра за мной мама? Но кто мне ответит? Стена-то — она ведь немая.
Как-то утром вышла я на порожек, хотела послушать, как с пригорка бегут ручьи. Но не успела и оглянуться, как что-то зашуршало и надо мной раздались пронзительные, незнакомые звуки. Это в высоте, прямо вытянувши ноги, описывая большой круг, пролетел аист.
Потом мы с ним познакомились. Аист, как часовой на посту, подолгу сторожил свое гнездо на высохшем дереве, загибая назад красноносую голову. Я с любопытством разглядывала гнездо аиста, а на меня глазели маленькие ребятишки. Им, видно, в диковину была моя синяя школьная форма с белым фартуком. Осмелев, они дергали меня то за фартук, то за косу.
Не только я, но и другие мои сверстники в эти весенние дни не ходили в школу. Я слышала, как говорили девчонки:
— Школа хлеба не даст.
Все, кроме самых маленьких, целыми днями работали в поле: пашут, боронят, сеют... За плугами и боронами шли мальчишки, исхудалыми лошадьми и волами правили девчонки.
Один плуг, сильно мыча, тащила корова.
И мне хотелось пойти за волами, прокладывавшими борозду; если надо повернуть направо — кричать им «цоб!», а налево — «цобе!» Но тетя Христина строго-настрого приказала, чтобы я далеко не отлучалась от хаты.
Днем я с опаской проходила мимо индюков. В слободе их была целая стая. Мне не нравились их голые лиловые бороды в бородавках. Такие вспыльчивые и сварливые, хвосты распускают, кричат, надуваются.
Вся эта стая принадлежала одному хозяину — степенному Харитону Тимофеевичу. Ходил он в синей суконной поддевке и разговаривал, поглаживая темно-русую бородку.
Это у него дед Кондрат взял в долг мешок муки, да так и не успел отдать. Тетя Христина осталась должницей.
Про Харитона Тимофеевича много говорили в слободе: про то, как он разжился, торгуя сушеными грушами, как деньги в горшке под печкой замазал, а в клуне, под половой, просо от продармейцев припрятал.
Рассказывали и о том, что раньше выезжал он в город на четырехрессорной линейке, а на его лошади красовалась наборная уздечка.
Как-то пришел он к нам в хату, хвалил тетю Христину
за то, что она мужу в работе была помощницей, а в заботах — советчицей, и сказал ей, чтобы не спешила с отдачей долга.
И на меня посмотрел ласково, назвал «городской барышней», будто все ему было про меня известно.
Вечера были весенние, соловьиные... А ночи напоминали самое страшное и горькое.
Я вздрагивала, когда вдруг кто-то начинал кулаком бить в окна. Даже самый легкий стук больно настораживал.
Всегда спокойная и ровная днем, Христина Петровна ночью спала не раздеваясь, и не раз видела я, как она вдруг вставала, прикладывала ухо к окну, прислушивалась.
Однажды утром она рассказала, что перед рассветом мимо хаты по шляху быстро и шумно промчалась телега с лошадью, но без седока.
Днем мы узнавали о том, что произошло за ночь.
Бандиты-кулаки подпалили хату, в которой жил с семьей председатель комитета бедноты Никита Бровко. Незадолго перед этим он нашел и отобрал у кулаков припрятанное оружие.
Окружив хату, бандиты кричали: «Кто не виновный — выходи!»
Жена Бровко выбежала с ребенком на руках. Бандиты ее зарубили.
Никита отстреливался, пока не упал в горевшей хате. Сын его выпрыгнул. Бандиты его поймали, изрубили на куски.
А когда последней из хаты вышла седая Бровчиха, пьяные бандиты катались на ней верхом, заставляли старуху есть землю.
На месте хаты, где жил Бровко, остался только пепел. А про старую Бровчиху говорили: «Рехнулась».
Когда тетя Христина узнала об этом, она вспыхнула, будто и ее лицо осветилось кровавым пламенем. Села на лавку, потом быстро поднялась, схватила ухват и снова села... Она впервые показалась мне совсем старенькой. На лбу ее появилась глубокая морщинка-борозда.
...Каждый день только и слышно было про хлеб, про поджоги. Бандиты вылезали из земли, как змеи. Кулаки ловили продармейцев, ножами вспарывали им животы, сыпали туда зерно, а на лбу и груди выводили: «Продразверстка выполнена».
Говорили о «черных воронах» — бандитах, увешанных оружием и бомбами. Носили они черные барашковые папахи и, творя расправу над советскими работниками, издевательски каркали по-вороньи.
Я слушала все это и по ночам кричала во сне. Снилось мне: черные вороны каркают и выговаривают: «Это ты выстукивала большевистские телеграммы! Изрубим тебя на капусту!»; подлетают черные вороны к глазам — сейчас клюнут... Закричу и проснусь, только чувствую, как сердце сильно бьется.
Долго лежала с открытыми глазами, прислушивалась к шороху и думала: «Как много врагов, и откуда они только берутся?»
В одну из светлых ночей раздался легкий стук в окно.
— Кому в такой час?
Тетя Христина впустила какую-то женщину и не зажгла каганец.
Мне бросилось в глаза, что голова женщины ничем не прикрыта. Ночь была теплая, а она дрожала.
Женщина рассказала, что в их селе, спасаясь от бандитов, военный комиссар и три красноармейца забрались на колокольню. Бандиты окружили колокольню, палили по ним из обрезов. Но комиссар со своими людьми не сдаются...
Женщина говорила, а голос ее срывался. Она перешла на шепот. А мне было слышно, как сильно бьется ее сердце. Будто она не с нами, а тоже там, на колокольне, где так страшно...
Тетя Христина уложила ее рядом со мной, а сама вышла из хаты. Она пошла к сестре, разбудила Виктора и приказала ему как можно скорей добраться до города, до почты, до начальства. Потом вернулась, взяла кожух, подушку и сказала, что ляжет на воле.
— А то в хате блохи кусают, — улыбнулась она. — Спите спокойно. Сюда никого не пущу.
Всю ночь она нас стерегла.
Рассвело. Тетя Христина затопила печь, а сама все посматривала на шлях. И меня посылала посмотреть: не клубится ли пыль?
Мне не хотелось отходить от ночной гостьи.
Над кроватью висел шест для одежды. Тетя Христина повесила на него свитку, теплый платок, перекинула старое рядно. За всем этим, подальше от недобрых глаз, скрылась женщина.
Наконец мы услышали гул, а за ним и беспорядочный конский топот. Это вихрем пронесся мимо нашей хаты эскадрон кавалеристов.
Кони все разные: рыжие, вороные, гнедые в яблоках... Я их и разглядеть как следует не успела, только видела, что на многих всадниках шлемы.
И тетя Христина смотрела в оба глаза. Она сказала, что впереди летел широкоплечий вояка с усами, а рядом с ним, прижимаясь к седлу, скакал во весь мах наш Виктор в своих драных опорках. Под самый вечер он вернулся усталый, но возбужденный, будто все еще мчался.
— Ударили по ним с двух сторон, нагнали страху, да такого, что смешались они в одну кучу, а потом бросились бежать без оглядки кто куда! — задорно рассказывал Виктор.
Ночная гостья подробно его обо всем расспросила, всем поклонилась, меня поцеловала и, несмотря на поздний час, покинула хату.
Виктор вернулся не один: кавалеристы дали ему коня, одарили солью и спичками.
— Конячка не строевая, хвост облезлый, уши опущены, но на траве отойдет.
Виктор и нам принес соли и спичек.
Только поблагодарила его тетя Христина, а он в ответ ни с того ни с сего хлопнул себя по лбу и закричал, будто командовал эскадроном:
- В атаку, марш, марш! — посмотрел на меня многозначительно, полез в карман и протянул телеграмму.
Это Сергей сообщал, что скоро за мной приедет мама.
Телеграмма лежала на почте с пометкой: «Доставить при первой возможности».
Так хотелось петь и прыгать, домой слетать. Я прыгала и повторяла: «Целую Сергей», «Целую Сергей».
а другой день Виктор снова появился у нашей хаты.
На сваленном дубке, у дуплистой, развесистой вербы, он разместил целую шорную мастерскую. На крюк, вбитый в дерево, закрепил рукоять будущего кнута.
Я увидела у него шило в руке, подошла ближе, а тетя Христина крикнула:
— Опять тары-бары-баляндрасы!
— Не баляндрасы, а бич плету,— обидчиво ответил Виктор.
— Вот это дело! — обрадовалась тетя Христина. Виктор делал кнут и разговаривал не то с кнутом
не то со мной:
— Ну зачем ты мне сдался? Мне бы клинок в руке зажать или ружье боевое! Стоял бы я на посту у порохового погреба, а не коров стерег. А ты, говоришь, артисткой будешь? Да, все городские хотят быть артистками. Каждый день в театре! А я сроду там не был.
Кнут становился все длинней и длинней. Кожаные, сыромятные ремни обнимали друг друга, плотные, выпуклые. Так и хотелось схватить кнут за рукоятку.
— Кнут ладный будет! — любовался Виктор своей работой.
Виктор перехватил полосы железным колечком и снова продолжал плести. Он мастерил и мастерил, с шилом в руке, ловко просовывая в большую иглу тонкий кожаный ремешок.
Кнут становился все уже и уже. К его концу Виктор навязал хвост из волос настоящего коровьего хвоста. Завязал его узелком и распушил.
— Чтоб звучней и страшней было, — сказал он и взялся за рукоять.
Виктор встал, а я отбежала в сторону. Он размахнулся и так хлестнул, что я вздрогнула, даже сильней, чем когда в первый раз услыхала гудок паровоза.
Я побежала к хате, а Виктор все хлестал и хлестал своим хлестуном. Потом опустил кнут на землю и начал играть им, будто это был не кнут, а длинная, длинная лента.
Он был доволен работой.
Виктор смотал кнут в круг, накинул его на плечо, сделал несколько широких шагов и сказал:
— Хочешь, попробуй! Только голову береги и за уши не задень. Размах большой бери.
Я не удержалась и схватила кнут за рукоятку. Как удобно держать его в руке! Дерево такое мягкое. Рукоятка сама в руке ходит. Но все же я не решилась хлестануть.
— Э, тебе гусей пасти, а не коров! — поддразнил меня Виктор.
Гусей я по-прежнему недолюбливала. Но ничего не ответила Виктору. Он раздобыл банку с дегтем и начал смазывать им кнут, будто это было колесо.
Тетя Христина пообещала отпустить меня с Виктором.
...Меня разбудили. Проснулась и ничего не могла понять спросонок. Пока я продирала заспанные глаза, пропели третьи петухи.
Тетя Христина ворчала: — Что, и тебя за хвост поднимать?
В тишине я услыхала, как заскрипел журавель колодца, но этот скрип заглушили удары бича, похожие на выстрелы.
На заре все так звучно, даже собственный голос. Далеко, далеко катится эхо.
Было холодно. Земля словно поседела. Из труб тянулись струйки синего дыма, а бледно-серое небо словно не подпускало их к себе.
Виктор не замечал меня. С торбой за плечами, в латаной куртке и дедовых штанах, он сразу стал серьезным и степенным.
Тетя Мотря кричала ему вслед:
— Смотри за стельной! Потише с ней!
Тетя Христина пошла нас провожать. Она вела меня за руку, потом отпустила, и я пошла за стадом.
Зарозовели небо и поля. Даже пыль, которую подняли коровы и овцы, была розовой, будто слетевшая с цветущих яблонь.
Изголодавшиеся за зиму коровы жадно тянулись мордами к траве. А овцы будто раздумывали и, вместо того чтобы есть траву, жались друг к другу. Я узнала, что на росе они не едят.
Виктор громко крикнул, и его голос отозвался далеко-далеко.
Стадо было небольшое.
Уже второй год Виктор ходил пастухом, и ему почему-то было самому смешно, что он здесь самый главный и что я у «голопаса» за «подпаска».
— Скотину никогда не накормишь досыта,— говорил Виктор. — За день наберется травы, а домой идет — все хватает по дороге, будто голодная. Хозяйки на пастуха обижаются. После зимы на выгоне коровы спокойные. Пастуху благодать, самому прилечь можно. Зато как отъедятся коровы, начинают шкодить, баловаться и даже драться. Рога выламывают, вымя прокалывают, в пшеницу залезут, только и гляди, не зевай. В лес зайдет, ядовитой травы наестся, ну и готова. Беды не оберешься. За все отвечай, — жаловался Виктор. — Молоко-то, оно где? — спросил он меня.
Я не знала, что и ответить.
— Молоко пьешь, а не знаешь, что оно у пастуха в йогах. Хорошо пасти надо!
И он рассказал, что пастухом стал не по своей воле. Правда, понравилось ему, как старый пастух в медный рожок играл. Коровы на рожок сходились. Только не удалось ему медный рожок достать. Может быть, даже этой осенью пойдет он добровольцем в Красную Армию.
— Ты не смотри на мои опорки. Подбил, а все продранные. Вот пойду в кавалерию — мне там сапоги дадут! — мечтал Виктор.
Еще дед Кондрат приучил его с малых лет ездить верхом без седла и без стремян. А Виктор мечтал поскакать в седле.
Высокий и нескладный, он гикнул, свистнул и, будто играл в чехарду, — перепрыгнул через куст.
Пас коров, а мечтал о конях, печалился, что теперь в слободе остались только кривобокие лошади, а он еще такую же привел.
— Без хвоста и гривы, — сказал Виктор и звонко рассмеялся.
Шло время, и мне стало не по себе.
— А вдруг мама приехала и ждет меня?..
Я попросила у Виктора бич и ну давай им хлестать, Виктор перестал улыбаться.
— Так у меня все коровы сдохнут,— сказал он.
Я отошла подальше от стада и продолжала хлестать. С бичом в руке мне не было боязно, будто всех «черных ворон» разгоняла.
Прорежешь воздух, и вольней как-то дышится!
Я знала, что мальчишки интересуются азбукой Морзе, и захотела похвастаться перед Виктором, что кое-что в этом деле смыслю.
Со слов отца, я рассказала ему, как перестукивались между собой революционеры, брошенные в темницы, как договаривались о побеге, о подкопе тюремных стен... — Это ты все выдумала, — не поверил мне Виктор.
Рядом с пастбищем простиралось вспаханное, но еще не засеянное поле. Я разровняла землю, подтащила Виктора и стала чертить азбуку Морзе, а потом, убедительности ради, принялась выстукивать ее на большом камне.
Но, к моему удивлению, ко всему этому Виктор остался равнодушным. Я даже обиделась и за себя и за Морзе.
Медленно и спокойно шевелили боками коровушки...
Виктор молчал, молчал, а потом признался, что ему все невдомек, потому что он только одну зиму бегал в школу и не свыкся с буквами самыми обыкновенными. Но тут же предложил мне поймать ящерку, которая вылезла из норы и грелась на солнышке. Ящерку я не поймала. А Виктор быстро зажал ее в кулаке и, смущаясь, попросил, чтобы я снова ему показала, как на телеграфе стучат.
— Только не спеши. По этому делу ты меня на сто верст перегнала.
Я снова вернулась к азбуке, только не к Морзе, а к самой обыкновенной. Выводила и печатные и письменные буквы.
Рубашка у Виктора была застегнута только на одну пуговицу, другие просто отсутствовали, но он и единственную пуговицу расстегнул.
— Без пуговиц дышать вольней. Да ты подожди, я не поспею за твоими буквами.
Мне досадно стало, что я оказалась такой плохой учительницей. То, что сама узнала за долгое время, сразу навалила на Виктора.
За один день лицо мое покраснело, обветрилось. Икры на ногах поджарились и стали как пружины. Никогда хлеб не казался мне таким вкусным...
На следующий день, когда мы опять пасли коров, Виктор был молчалив. А потом внимательно посмотрел на меня и спросил:
— Ну ладно. Ты думаешь, что корова не конь, скакать не умеет?
Я и ответить не успела, а Виктор рассмеялся:
— Не только облезлого мерина, но и любого жеребца догонит.
И тут же он разыскал пучок соломы, обложил ею хвост громадной корове и погладил ее по гладкому заду. Потом снова стал необыкновенно серьезным. Медленно достал спички и запалил солому.
Корова, почуяв дым, оторвалась от травы, повернула голову, как-то странно затанцевала и стремительно понеслась вскачь.
Виктор бросился за ней и, уже смеясь, потянул за хвост.
— Эх, ты! — осмелилась я с укором сказать Виктору, будто не он, а я была старше его по крайней мере лет на десять. — Если бы тетя Христина узнала, как ты скотину мучаешь, тебе бы досталось! И спички тратишь зря!
— Завтра я еще не то придумаю, зевать не будешь! — ответил Виктор.
Вечером, когда мы пригнали коров домой, тетя Христина была очень взволнована и, только когда увела телку в сарай, вошла в хату, села на лавку и заговорила:
— Тебя не было, Харитон приходил. Такой тихоня; кричал бы лучше. На языке-то мед, а под языком — лед. На наши палати польстился. Хотел меня слопать, говорит: «Раз одна осталась — переходи к Мотре, тебе с сестрой сподручней».
Понадобилась Харитону моя хата. Говорит: «Долг прощу и еще муки дам». Обещал одарить до скончания века. У самого дом с верандой, на пять окон, железом крытый. Зачем ему халупа моя? Должно быть, задумал что припрятать. У него во дворе восемьдесят пудов зерна нашли, в земле закопано. Под половицами сало все золой пересыпал. Он и хату мою с землей сровняет. Еще грозился, говорит: «Кондрат твой от церкви отказался, а люди за его грехи могут и тебя не простить». Советовал мне аккуратней быть: «Не подпалил бы кто».
Я ему прямо сказала: «Не нужна будет мне хата, под
красный уголок отдам бедноте, а в кабалу к тебе не пойду!» Знаю я его зубы. Только время теперь не такое. А он поклонился и говорит: «О тебе, Христина, забочусь, а ты сердишься», и задком, задком, на цыпочках к двери попятился; так бочком и ушел.
Слушала я и представить себе не могла эту хату без тети Христины. Только представила я, что может забраться сюда со своими мешками Харитон Тимофеевич, так мне жалко стало хату, будто она была живая, все чувствовала и понимала.
Я закричала:
— Не пускай его!
— Не пущу, — успокоила меня тетя Христина. Ночью мне приснился наш харьковский хозяин Родион
Ефимович, что-то шепчет в ухо Харитону Тимофеевичу, будто про меня говорит: «Надо как следует проучить девчонку и за квартиру им набавить». Взялись они за руки, Родя и Харитон, и давай плясать. Они меня и разбудили.
Проснулась и подумала: «Вот бы этих плясунов бичом отхлестать».
Тетя Христина уже печь вытопила и заставила меня съесть полную миску кулеша.
Вышла я из хаты, а Виктор тут как тут. Передал мне корзину, покрытую мешком, и сказал: «Неси, только не смотри».
Ноша показалась довольно увесистой. Нетрудно было догадаться: в корзине не глиняные горшки, а что-то жилое, даже непокорное.
Дошли до выгона.
— Снимай мешок! Держи петуха! — крикнул Виктор. Я сняла мешок и увидела красный петушиный гребень. Виктор подскочил к корзине, одной рукой сгреб под
мышку петуха, другой завязал ему ноги и торжественно опустил на землю.
Слегка покачиваясь и отряхивая черные блестящие перья, петух с недоумением осмотрелся вокруг.
Виктор не спускал с него глаз.
— Подумай, выступает, как жеребец! Грудь вперед, недаром Драчуном зовут!
Драчун хлопнул крыльями и, как достойный представитель пернатого царства, закрыл глаза и громко запел.
— Это у нас с тобой часы с боем. Только без маятника. Он привязал петуха за ногу к кислице.
Я рассказала Виктору, как еще совсем маленькой ездила на конке; помнилось мне, что вагончики летом были открытые и везли их две лошади.
И еще похвасталась, что ездила в почтовом вагоне.
Виктор сразу насторожился:
— И я ездил. Два перегона проехал. Ночь была. Звезды в небе светят, а он несется! Быстрота! Только в лес въехали, а он прет и прет, ходу не сбавляет.
Петух ходил возле деревца и что-то клевал.
Драчун свыкся со стадом, и Виктор отвязал его. Он горделиво шагал по пастбищу, высоко поднимая ноги с острыми петушиными шпорами.
Виктор никак не мог им налюбоваться:
— Вот это кавалерист!
Черногрудый Драчун действительно был красив. Солнечные лучи переливались на блестящих перьях. Его ярко-красный мясистый гребень казался здесь необыкновенным степным цветком. Изогнутыми черными когтями петух деловито разгребал траву.
Когда Виктор особенно шумно выражал свое восхищение, Драчун тянул шею кверху и задорно откидывал голову назад.
Виктор хотел позабавить меня, но и сам забавлялся. Он попросил меня не болтать в слободе, никому не рассказывать, как мы петуха «пасли».
— Смотри, цыц! А то даже кони ржать будут. Это я потому, что не за кем нам здесь смотреть. Разве это стадо?
Обратно я несла петуха не в корзине, а под мышкой. Драчун так нагулялся, что даже не пытался вырваться, крепкий, налитой, плотно прижавший к бокам черные крылья. Перед самым домом мы снова уложили Драчуна в корзину и накрыли мешком.
Вечером тетя Христина поставила еду на стол и сказала, сокрушаясь:
— Добрый пивень у Мотри был, да пропал. К чему бы это?
Сказала так и тут же прислушалась.
— Да это он, слышишь, как спивает?
Тетя Христина даже вышла из хаты. И я за ней.
Мы подошли к дому, где жил Виктор. Черный «подпа-
сок», как всегда, сидел на своем излюбленном месте, среди нахохлившихся кур.
Больше Виктор не брал с собой петуха в поле.
Как-то подошла я к Драчуну. А он, должно быть, узнал, хлопнул крыльями и с гневом бросился на меня. Я отвернулась, а Драчун взлетел на плетень и громко закукарекал.
В воскресенье в хате все было прибрано и по-праздничному чисто.
Я не раз замечала, как, задумавшись, тетя Христина начинала громко разговаривать сама с собой, — так громко, что я однажды не удержалась и спросила:
— С кем это вы, тетя?
— Как с кем? С Кондратом. Чую я, что он меня слышит.
Тетя Христина, хотя мы были только вдвоем, часто клала на стол и третью ложку. Положит ее и так заботливо поправит. И солонку ближе к ней пододвинет.
Так было и на этот раз.
Я опять спросила:
— Ой, тетя, кого это мы ждем?
Она ничего не ответила. Только с грустью взглянула на меня.
Вдруг дверь без стука открылась, и я увидела на пороге хаты свою маму, в белом платочке, такую маленькую, растерянную.
— Мама! Мама! — закричала я что было сил. Бросилась к ней, обнимаю, целую, а сама чувствую,
как текут слезы. И у мамы щеки и глаза мокрые.
Мать вся в пыли, а пахнет мылом...
Бьется сердце от радости, бьется-бьется и вдруг так сжалось...
Тетя Христина оторвала меня от мамы, как-то неловко усадила ее на лавку, обняла и громко воскликнула:
— Вот и встретились мы, вдовы! Ох, доля наша, доля! Мама все благодарила Христину Петровну. А тетя Христина все просила маму за что-то ее извинить и простить, будто плохо она за мной смотрела; схватилась за голову и заплакала...
— Слезами горю не поможешь, — тихо, упавшим голосом сказала мама.
Она вышла на улицу и долго отряхивала свою одежду.
Тетя Христина постелила нам широкое рядно.
Мы лежали рядом, как подруги, а тетя Христина смотрела на нас и приговаривала:
— Ой слышу, как ваши серденьки бьются. Потушили каганец, а мы все говорили и говорили. Мама рассказала, как каждый день она рвалась ко мне, к могиле отца, но Лена заболела тифом; рассказала, что Сергей уже не посыльный в штабе, а боец отряда особого назначения. Величает себя секретарем комиссара. Мама видела этого комиссара. На вид ему от роду не больше двадцати. Сергею же пятнадцать с половиной. Уехали они под город Изюм воевать с бандитами.
Мне было так хорошо рядом с мамой, что я подумала: «Как забавно называется этот город — Изюм! Будто не город, а булочка с изюмом».
А мать все рассказывала:
— Только начала Лена поправляться, стала я каждый день ходить на Ульяновскую улицу за пропуском. Там тысячи людей стоят у окошечка. Трудно выехать из Харькова. В городе тиф...
Утром мать сразу заторопилась:
— Леночка там одна, Сергей приедет, да и с завода всего на несколько дней отпустили.
Тетя Христина просила ее пожить здесь, отдохнуть. Но убедилась, что не уговорить ей маму, и стала собирать нас в путь. Напекла картошки и коржиков. Отдала маме сало, оставшееся у нас с зимы. Мать даже ахнула; только кусочек взяла, а от остального наотрез отказалась.
Тетя Христина тихо прикоснулась губами к моему лбу, а я крепко прижалась к ней. В руках у нее был какой-то платочек; она развернула его и вдела мне в уши сережки, заблестевшие, как две росинки.
— Уши-то у тебя проколоты. Носи, не снимай, меня с дедом не забывай.
Маме она подарила полотенце с петушками, вышитыми черной и красной ниткой. У хаты собрались соседки:
— Прощавайте!
— Бувайте здорови!
— Дай боже час добрый!
При прощании у меня защекотало в носу, но тут кто-то сказал:
— Конь и то на свою сторону рвется.
И мы пошли. Тетя Христина вместе с нами.
Вон и стадо раскинулось. Я замахала платком. Может быть, Виктор увидит.
Помню, как напоследок я поцеловала тетю Христину в ее обветренную щеку. Она осталась на шляху, а мы пошли дальше.
Я все оборачивалась и видела, как тетя Христина стоит на одном месте, смотрит нам вслед и машет, и машет рукой...
Было ветрено, но тепло.
Мать посмотрит вокруг, вздохнет и снова начинает рассказывать про харьковскую жизнь:
— Мать Тоси и Веры, Евдокия Ефименко, отмучилась. Умирала она долго. Дочки ее сидели за дверью, тихо плакали. Больше всех убивался маленький Андрюшка; он привык к Евдокии, словно к родной матери.
Также нет на свете и соседа их, латыша Оскара. Свалил его сыпной тиф. Лежал он в гробу, в латышском клубе, с орденом Красного Знамени на груди. Мать рассказала, что и она была на похоронах Оскара и никогда еще не видела столько венков...
А здесь тысячи свежих душистых полевых цветов заполняли бесконечный простор. В степи цвели тюльпаны, желтые, розовые, пестрые... Все пространство, от свежевымытой дождями земли до глубины синего неба, звенело, сияло радостью.
А отца нет...
Мать замолчала. И я ни о чем ее не спрашивала. Шли мы и, должно быть, думали одно и то же.
Вдруг мать остановилась и сказала:
— Тяжко мне, давай присядем.

Я выругала себя за то, что так неравномерно поделили мы ношу, и потянулась за узлом.
— Да нет, сердце сдавило.
Мать опустилась на землю. Повязанная платочком, один из концов его она поймала ртом, хотела сдержать себя, но не смогла. Крепилась на людях, а здесь, в поле, поникла, уткнувшись в узел, и закрыла лицо руками...
Я тревожно прислушивалась к ее дыханию. В эти долгие минуты я не знала, что мне делать.
Потом мама поднялась, оправила платье и маленькой рукой схватила узел. Теперь она шла, как-то выпрямившись, строгая, но такая родная мне в этом огромном мире.
До городка дошли не останавливаясь. На площади присели на дощатый помост у братской могилы.
Мать смотрела на холм безучастным взглядом. Только чуть шевелились ее губы...
Веточкой она смела с могилы сор, и мы пошли.
По дороге на почту зашли к Левко. Его тетка нам обрадовалась, стала угощать, напоила чаем из разных листьев и все рассказывала, перескакивая с одного на другое.
Несколько дней тому назад арестовали Аничку. Она, гадина, все подслушивала и передавала бандитам. У них там в монастыре своя «почта» работала. Ненависть к Аничке сжала сердце. Я и раньше ее не любила, такую липкую, приставучую.
Когда делали обыск в келье, монастырка злобно сказала, что она выполняет божью волю. На почте «черная ворона» всем улыбалась, у иконы поклоны отбивала и, как только могла, клевала и предавала, во имя царя небесного, советскую власть.
Тетка Левко рассказала и про Зыкова. Как узнали бандиты, что тем из них, кто будет сопротивляться, — пуля в лоб, а тем, кто придет с повинной, — амнистия, Васька Зыков первым покаялся.
Левко проводил нас до почты. Он нес мамин узел, то и дело меняя руку. А я рассказывала ему про Виктора.
Меня звали к себе морзянки, и я открыла дверь аппаратной. Тянется лента, стоит бутылка с клейстером, желтые бланки рядом...
За аппаратом — прилизанный Васька Зыков. Жирные волосы так и лоснятся. Он обернулся и, увидев меня, как ни в чем не бывало певуче, с улыбкой произнес:
— Привет девочке!
С силой закрыла я дверь и пошла на крыльцо, где мама разговаривала с новым начальником почты о предстоящей дороге.
Будто сейчас слышу мамин голос;
— Другое дело, был бы Степушка жив...
Новый начальник почты дал маме бумагу с печатью, чтобы на станции нам помогли сесть в поезд. Вещи отца мама упаковала в посылку и сдала на почту. Узел стал узелком.
У волов стоял новый возчик. Он отвезет нас на станцию. А волы все те же: рослые, круторогие, такие неуклюжие и добрые, только будто запылились.
Левко тоже долго смотрел нам вслед, как п тетя Христина.
Прощайте, белые дома и сады, усыпанные бело-розовым пухом!
Пошли огороды. Ветер колыхал тряпицу на высоком шесте...
Вот и златоглавый монастырь. Против монастырских ворот на высокой красной подставке я увидела бюст. Его не было раньше.
— Это Карл Маркс! — пояснил нам возчик.
Я услышала, как в воздухе что-то глухо урчит и потрескивает. Взглянула в небо и увидела, как ветер рвет вверх бумажного змея с длинным-предлинным хвостом. Ой, только бы не запутался в проводах!
Приехали на станцию; возчик остановился у огромной угольной насыпи, выпряг волов, пустил их пастись, а сам, сдав почтовые мешки, раздобыл лопату и доверху загрузил воз углем.
— Угля много, а вагонов нет, — сказал он без особой печали.
Начальник станции долго разглядывал бумагу, выданную начальником почты, а потом отложил ее в сторону:
— Поезд будет завтра или послезавтра. Мать от этих слов чуть не заплакала.
— Может быть, товарный подскочит, — успокоил ее начальник станции.
Не терпелось скорей услышать рев паровоза. Но на станции было тихо. У лотка толпился народ. Это были пассажиры, уже несколько дней ждавшие здесь поезда. Лоток открывался раз в день, на полчаса. В нем продавали землисто-черный хлеб с лебедой, нарезанный четвертушками.
Я спала на скамейке, положив голову на узелок.
Поезд ли это или разгулявшийся ветер? Издалека донесся свисток.
Мать первая услыхала отдаленный гул. Она растормошила меня. Я протерла слипающиеся глаза. Все выбежали на платформу.
Три огромных светлых глаза далеко осветили рельсы. Наконец, разбрасывая во все стороны огненно-золотые искры, показался паровоз. Он тянул за собой нефтяные цистерны. Как на них взобраться, как уцепиться?
Измученные люди бегали вдоль цистерн. Снова тронулся состав. Только немногим удалось примоститься на буферах.
Мать безнадежно махнула рукой. Красный фонарь заднего вагона исчез в темноте.
К нам подошел железнодорожный телеграфист. От кого-то узнал, что нам надо добраться до Харькова. Он так хорошо говорил об отце! Сказал, что, как только получит депешу о прибытии подходящего состава, сразу же даст знать.
Но кончилось его дежурство, а депеши не было.
Пожелал нам доброго пути и ушел...
На заре снова появился на станции.
Нам повезло: все-таки, тяжело дыша, «подскочил» товарный. Телеграфист усадил нас в тамбур вагона, а мне передал что-то завернутое в тряпочку. Это были два пирожка с картошкой.
Со всех сторон обдувало ветром. На первой же остановке железнодорожник, сопровождавший товарный состав, сказал, что поезд дотянет только до Купянска.
— А дальше как? — встревожилась мама.
— Там видно будет,— ответил он.
Должно быть, чтобы мы не огорчались так сильно, он принес нам брезент.
— Холодно небось!
Мы легли на пол тамбура и с головой накрылись тяжелым брезентом; лежали под ним, как в темной пещерке, согревая друг друга.
Не то в Купянске, не то на какой-то другой большой узловой станции мать снова протягивала разному железнодорожному начальству бесценную бумагу с печатью.
Кто читал, а кто и не глядя отвечал: «Ждите» или «Там видно будет».
Прошло несколько поездов, но мы не сели.
Еще один поезд, со свежевыкрашенным паровозом. Теплушки и пассажирские вагоны. В почтовый нас не пустили:
— Нельзя, нельзя!
«Как же нельзя, когда уже раз я вместе с отцом ехала в таком вагоне?» — хотела я сказать, но осеклась и покраснела.
Раздался третий звонок, а поезд все еще стоял. Мы бежали от вагона к вагону. На площадке самого послед-пего мать увидела молоденького красноармейца:
— Сыночек, видишь, у нас один узелок да гитара; родненький, мы не спекулянты, домой возвращаемся!
Красноармеец посмотрел на гитару и протянул нам руку. Поезд вздрогнул, медленно тронулся, и мы поехали, чувствуя себя такими счастливыми!
Вагон был набит. С верхних полок свисали затасканные, засаленные мешки, во многих из них повизгивали поросята.
Трясло и лязгало.
С опаской я смотрела на мешки: вот-вот свалятся на голову. Пассажиры заботливо обнимали свою туго набитую, пыльную поклажу.
Мать оберегала гитару — как бы не раздавили.
Все время только и говорили о заградительных отрядах, о том, что отбирают мешки, проверяют документы. Зажатая со всех сторон, я не могла повернуться. Затекли ноги.
От меня не ускользнуло, как мама вдруг вздрогнула и сжала губы. Нам она всегда говорила: «Боли не поддавайся!» Я с тревогой на нее посмотрела, будто спросила: «Где болит, в боку ли, в голове?»
А мама, заметив, как я растерялась, сказала:
— Духота донимает!
Она похлопотала и, переложив какую-то чужую поклажу, устроила меня у полуоткрытого окна. Я жадно прильнула к стеклу.
Мелькали телеграфные столбы. Я не отрывала глаз от рельсов, мчавшихся рядом. Вдруг увидела: вдоль полотна идет линейный надсмотрщик с инструментальной сумкой. Только хотела я высунуться в окно, крикнуть ему, как
паровоз все заволок дымом и паром — и человека и провода...
...Прошла ночь. Скоро Харьков. В вагоне все зашевелились, потягиваясь и почесываясь. Люди с мешками пробирались к выходу, хотели как можно раньше покинуть вагон. Многие прыгали на ходу, лишь бы миновать «заградилку».
Толчок назад. Вздрогнули и закачались мешки на спинах и в руках. Поезд остановился, не доезжая до семафора.
Кричали люди, визжали поросята...
Мы вышли последними.
Родной город встретил меня громадой домов, подернутых предрассветным туманом.
Я отвыкла от больших зданий; угрюмые, серые, они строго смотрели на меня черными, сонными окнами.
Мать долго стояла на одном месте, будто не могла опомниться.
- Пойдем, пойдем! — сказала я маме. Она встрепенулась и заторопилась.
Мы шли через Основу. Здесь еще цвела белая акация. В ее цвету работали пчелы. Деревья гудели, как провода. Я вспомнила, как отец, у которого ко всему был почтовый подход, говорил, что белая акация — лучшее дерево для столбов.
Миновали песчаный пустырь — «пустыню Аравию», прошли мост. Свернули с мостовой. И вот уже ноги ступают по немощеной Газовой.
Домик наш словно шагнул навстречу. Ставни были закрыты.
— Спит,— буркнула мама и громко постучала в ставню.
Сестра выскочила в одной рубашке. Я не сразу ее узнала, подумала: что это за мальчишка такой? Только когда она взвизгнула, я узнала Ленку.
Мать крикнула:
— Не обнимайтесь, успеете!
Вот мы и дома. Даже в хате тети Христины было куда просторней.
Сестра разглядывала меня:
— Ну и Галчонок, как выросла! А сережки какие чуд-ненькие! Дай, я примерю!
— Старшая, а сорока, — заворчала мать. — Смотри, как бы на службу не опоздала.
— Я сегодня не пойду на почту. Мне хочется с Галочкой побыть,— выпалила Лена.
Что? — уже сердито переспросила мама. Лена стала быстро одеваться. Мать нарезала ей сала. Сестра ахнула:
— И это все мне? Смак! Лена жевала и рассказывала:
— А я по карточке получила бутылку уксуса. Вместо мяса выдали рожь...
Первым делом мать растопила печь и поставила греть воду.
— Ой, как не хочется от вас уходить! — сказала Лена и, прикрыв мальчишеские волосы маленькой шляпкой, побежала на почту.
Мать все говорила о вшах и лила, и лила на меня воду, терла мочалкой и приговаривала: «Увижу бекаса, состригу волосы под машинку».
Потом мать заставила меня лечь в кровать, прикрыла ставни. Я с удовольствием свободно вытянула ноги и тут же заснула на мягкой маминой постели. А когда проснулась, не сразу разобрала, где я. В ушах то и дело возникал стук колес.
Яркий солнечный свет проникал во все щели ставен. За иконой увидела пучок вербы, в пушистых сережках.
Мать открыла ставни, и высокое солнце, без всяких преград, ворвалось в комнату.
Над кроватью фотография брата приколота кнопкой к стене. Снимался он в день, когда в большой фуражке, с пряжкой на ремне и ранцем за плечами пошел в реальное училище. Физиономия очень серьезная, но и на снимке ясно виднелась ямочка на подбородке.
Я смотрела на фотографию и не могла себе представить, как это Сережа борется с бандитами, страх нагоняет на врагов.
На минуту закрыла глаза: мчится наш Сережка по
шляху на взмыленном коне, только пыль из-под копыт. Голову пригнул к гриве. Фуражка сбилась на лоб; сдвинул ее на затылок, дал шпоры коню и понесся еще пуще...
И тут же я вспомнила, как скакал мой брат верхом на палочке и цеплялся сзади на пролетки... Скорей бы он вернулся домой.
На стене, на своем постоянном крюке, уже висела гитара. Я вскочила, дотронулась рукой до струн, а потом прижалась к гитаре...
— Девчонки прибегали. Долго сидели на скамейке, все дожидались, пока ты встанешь. Сами бы не ушли, да Екатерина Семеновна их со двора выгнала, — сказала мама.
Совсем не изменилась наша хозяйка Котя; такая же прямая, важная. Она завела себе, кроме Бантика, еще трех кошек — все они были, как на подбор, рыжие.
Мама рассказала, что Котя на всех покрикивает, даже на своего мужа, а с рыжими кошками разговаривает нежно, как с малыми детками.
Кроме того, я узнала от мамы, что Клепцовы удочерили круглую сироту. Зовут ее Адой. Родилась она где-то в Белоруссии. Отец ее погиб на войне, а мать, беженка, этой зимой умерла в Харькове от тифа.
Мама сказала, что домовладелка не позволяет приемной дочери играть с другими детьми и девочка скучает.
Я увидела ее на дворе. Худенькая, бледная, в синем платьице. Только я хотела с ней заговорить, как она сдвинула брови, отвела свои большие карие глаза и ушла в дом.
Вскоре я увидела ее в окне. Она прислонилась головой к стеклу. Мне показалось, что Ада искала меня своим взглядом, больше не отворачивалась, а смотрела прямо, открыто. Словно застыла в окне.
Тут-то я и разглядела ее лицо: в глазах таилась какая-то грусть. Что-то в этом первом, молчаливом разговоре завязалось между нами...
Я переплела косу и, щурясь от солнца, пошла к Ефименко, оглядываясь по сторонам. Все было мне знакомо и вместе с тем как-то незнакомо на Газовой улице.
Приближаясь к дому Ефименко, я вспомнила о Султане. Как же это я пойду к нему без «гостинца»? Скаля зубы, он вылез из будки, загремев цепью, и злобно на меня зарычал, унылый, облезлый — скелет с хвостом.
Вышла бабка Наталка, обрадовалась мне, поцеловала и сказала:
— Евдоху жалко. Все глаза выплакали. А как узнали про Степана — поверить не могли. Хорошо, что ты домой воротилась. Вместе и в горе легче. Завидная коса у тебя! Густая! Давно такой не видела. Жалко, что придется остричь.
Бабка Наталка совсем высохла, и выгоревшая юбка, похожая на старую тряпку, висела на ней, как на кочерге.
Я нарушила бабкино правило: вошла в дом, не сняв башмаки у порога. Половиков стало меньше.
Тося чуть не сбила с ног. Она прыгала вокруг меня, стриженная под машинку. Молча смотрел на меня Андрейка. Он уже был выше подоконника.
Я узнала, что и он теперь деньги зарабатывает: воду с «бассейна» носит соседям, по две тыщи за ведро.
«Ого!» — подумала я и еще раз посмотрела на Андрей-ку, обняла его и расцеловала. Худенький, хоть ребра считай. Как это он ведра с водой поднимает?
Тося рассказала, что теперь, как никогда, ловят и забирают всех кошек и собак, кто говорит «на мыло», а кто — «на колбасу». Потому и Султана на цепь посадили. Андрейка о нем заботится, сам не съест, а Султана хоть чем-нибудь, да накормит.
Бабка Наталка приметила мои сережки. Подошла ближе, осторожно дотронулась до мочки уха, подвела к окну, оттянула мочку и громко произнесла:
— Бриллианты! Самые настоящие!
— Да нет, стеклышки,— попробовала я возразить.
— Сама не носила, а у других видела!
Я рассказала о Христине Петровне, о деде Кондрате... Бабке Наталке они понравились еще больше, чем мои «бриллианты».
— Она тебе была как вторая мать. А я ведь тоже сочувствующая, сочувствую советской власти. Без сочувствия теперь жить нельзя, — сказала бабка и принялась вязать. Петля за петлей...
Большим деревянным крючком она вязала уже не дорожки и ковры, а тряпичные и веревочные тапочки. Бабка лихо приподняла ногу, хвастаясь своей работой:
— Ношу, не снимаю, гляди!
С перепонкой, на пуговичке, обшитые плотной парусиной снизу, тапки будто приросли к ее ногам.
— Я и тебя научу вязать. В самый раз к твоим бриллиантам! Приловчишься и людям свяжешь. Верка наша и смотреть на такие не хочет, барышней стала. Она у нас певица. Поет на клиросе. Что ж делать? Ушел Василь с фабрики. Извелся весь. Руки у него дрожат. Где он сейчас шляется?..
Бабка Наталка и слова не дала вымолвить Тосе. Зато я все от нее узнала и про Олесю, которая не сочувствующая, а самая настоящая партийная; про то, что трамваи не ходят, а электростанция еще на ремонте. Рынки закрыты; вся торговля с рук ведется в подъездах, во дворах, на привокзальной площади — тайком от милиции. Я буду получать хлеб и другие продукты по детской карточке; Сергею нашему, как военному, полагается карточка, под названием «Красная звезда»...
Когда я собралась уходить, бабка пошла меня провожать.
В коридоре столкнулись с Олесей. Увидела ее и сразу вспомнила: новоселье, суровые с виду, но веселые военные... Олеся, как и раньше, была одета по-военному. Волосы острижены, кепку держит в руке. На меня засмотрелась, а я на нее. Высокая, худая, как она осунулась! Большие глаза блестели ярче прежнего на бледном лице.
Просто, ласково мне улыбнулась:
— Здорово, Галя! Ну, как на селе, отсеялись? — неожиданно спросила она.
Я кивнула головой.
— Ты к нам приходи!
— «Приходи»! — передразнила ее бабка. — Сама-то дома не сидит, не передохнет.
Тося вышла со мной. Сделаем шаг, постоим.
Я с трудом узнавала знакомых.
Лица вытянулись, пожелтели; щеки впалые, а носы заострились. Совсем маленькие заметно подросли. У всех коротко острижены волосы. Гурьбой бежали за колесом. Остановились, посмотрели на меня, как на незнакомую, и тут же бросились догонять колесо.
«Какие все худенькие», — подумала я.
На улице расхаживали и потягивались костлявые, облезлые кошки, а кот Бантик стал еще более круглым — не кот, а цистерна с усами!
Родя издали послал мне воздушный поцелуй. Я очень разозлилась на него, когда он сказал: «Не девочка, а бутончик! Все с нее как с гуся вода!»
Тося провожала меня, а я Тосю.
Почтальон Лепехин, завидя нас, перешел улицу и протянул мне руку:
— С приездом, Галина Степановна!
Дома не сиделось. Прибежит Тоська и тащит на улицу. Где только мы не бродили! Знакомых мало, все идут незнакомые. Всматриваешься, прислушиваешься...
Тося всегда знала, где сегодня будет митинг. Мы располагались ближе к духовому оркестру. Ораторы сменялись под музыку. После каждой речи воздух прорезали гордые и могучие звуки. Прижмешься локотком к подруге и будто куда-то летишь...
На митингах всегда говорили о мировой революции. В такие минуты вспоминала долгие беседы с отцом.
— Да здравствует восходящее красное Солнце Мирового Октября!
Казалось, раздвинутся каменные дома и за ними — яркое восходящее солнце.
Пламенные слова шевелили сердце. Я старалась их запомнить и, так же как Сергей, принести маме. На митинге в груди горело, а рассказывала маме — получалось нескладно. Сердилась и на маму и на себя. Однажды Тося потащила меня через весь город на далекий ипподром. Качались флаги на весеннем ветру. Тысячи людей, пожилые и дети, рабочие и красноармейцы, пришли на митинг.
Выступал худощавый темноволосый человек с тремя шрамами на лице. Он начал с того, что передал харьковчанам горячий боевой привет от пролетариев Питера, от балтийских моряков.
Все стихли. Не сводили глаз с оратора. Громче зазвучал его голос. Он говорил о том, как питерские матросы, красноармейцы, партийные отряды с радостью, не боясь шли в бой за революцию.
— Эти люди не дрожали перед смертью, они проклинали белых до последнего дыхания! И последний взгляд их выражал всю ненависть к врагу!
Всех, всех покорил моряк своей горячностью, своей правотой. Тысячи людей из всех сил кричали «ура» и запели «Интернационал». И мы с ними.
Как-то вернулась я домой, открыла дверь — сразу в нос ударил запах сдобы. Из года в год в нашей большой русской печи хозяйка Клепцова и ближайшие соседки пекли куличи. Мать помогала им месить тесто в деревянном корыте. Разложит его по формочкам, и дверью не хлопни, чтобы тесто не село. За мамины старания хозяйки оставляли нам по куличику.
Соседки много месяцев собирали белую муку из пайка, голодали, а муку берегли к пасхе. Всю неделю перед пасхой в носу щекотало от запаха сдобы. Слюни глотаешь, а мать неумолима — нельзя и попробовать.
— А то праздник от будней не отличишь,— говорила она.
Мы ждали, что к 1 Мая Сергей обязательно вернется в Харьков.
С революционным праздником в тот год совпадала и пасха.
Мать стирала, гладила, прибирала и приговаривала:
— Как следует встретим Сережку. Он теперь главный наш кормилец.
Еще накануне 1 Мая Родя вывесил красный флаг у калитки.
У других домов на воротах висели красные платки, крашеные полотенца, полинялые, протертые куски красной материи. Родин же флаг был настоящий, к тому же самый большой и новый.
Родя выходил за калитку и подолгу стоял у флага, улыбкой встречая знакомых.
На Большой Москалевке играли оркестры, рабочие собирались на демонстрацию.
В разных концах города с утра гудели колокола, созывая верующих на торжественную литургию.
Родя пришел и нас поздравить. По случаю праздников
он облачился в новые широчайшие галифе, отороченные кожей, причесался — должно быть, целую банку бриолина уничтожил. В одной руке он держал палочку с красным флажком, в другой — красное яичко. Преподнес его мне.
В пасхальные дни усердно трезвонили и колокола, и злые языки:
«В Лопани обнаружены холерные вибрионы».
«На Холодной горе красноармейцы расстреляли двадцать человек, заболевших сапом».
«Не двадцать, а двести!»
«Одна неверующая женщина родила волосатого антихриста, младенца с густой бородой».
«Лампада сама затеплилась!»
«У иконы из святых глаз одна за другой слезинки капают».
И на этот раз не обошлось без чудес.
К Вознесенской церкви валом валили люди, взбудораженные новостью. Пустили слух, будто купол церкви обновился, заблестел больше других и крест на нем позо-лотился.
Я хорошо знала, как пройти к этой церкви. Совсем рядом почтовая контора, телеграф, переулок Почтовый... И мы с Тоськой помчались туда. Так же, как и другие, стояли, задрав головы кверху.
— Обновился! Обновился! — вопили женщины и опускались на колени.
— Ишь как блестит крест, сам позолотился!
— Чудо! Истинное чудо!
— Велика сила божья!
Откуда ни возьмись, перед нами вырос Василь Игнатович. Надев очки, он, как и все, таращил глаза наверх, а потом, приглядевшись, спросил у одной коленопреклоненной:
— Что это там?
— Церковь обновилась, — ответила она. Василь Игнатович переспросил: — Что обвалилось?
— Крест обновился! Шапку, нехристь, сними! — зло крикнула пожилая женщина.
Василь Игнатович громко, чтобы все слышали, произнес:
— Так, так, значит, всю ночь мелом терли.
А женщина продолжала твердить свое: — Ишь как блестит, блестит-то как! Василь Игнатович сказал еще громче: — Бензином протерли! Надраили, как медный са-
мовар!
В руках женщины оказалась палка:
— Ах ты!..
Но только размахнулась она, как Тося подпрыгнула и, ухватив рукой палку, с такой силой ее рванула, что женщина не удержалась на ногах и, падая, завопила:
— Режут, ироды!
Все кругом заволновалось. Те, кто только что глазел на купола, не понимали, что произошло.
— Знаменье божье! — раздался испуганный голос. Василь Игнатович осторожно приподнял женщину
с земли и с сожалением на нее посмотрел. Никому и в голову не пришло, что это они между собой «не поладили».
Мы пошли домой, а палка так и осталась в руках разгоряченной Тоськи.
Василь Игнатович не стал рассказывать бабке Наталке о случившемся, а только похвастался:
— Во какую клюшку мне дочь подарила! Праздник прошел, Сергей не приехал.
Я скучала по пастбищу, цветам и Сергею.
Хотелось поиграть в цурки, но все, с кем раньше играла, были заняты: плели туфли, как Тося, носили воду, как Андрейка; у всех на уме было только одно — как бы заработать на хлеб.
Мать рано возвращалась с завода, ходила из угла в угол: и постирать некому, все сами стирают, кто глиной, кто золой. А на заводе к празднику выдали целый брусок хозяйственного мыла.
Мать принесла мне много оберток от туалетного мыла с украинскими узорами. Я разглядывала их, когда в дверях неожиданно появилась генеральша Желтикова:
— Здравствуйте, Мария Ивановна!
— Мое почтенье, Мария Ивановна, — ответила мама и забеспокоилась, куда бы усадить гостью.
Стояло у нас в комнате несколько венских стульев, но все были расшатаны, перевязаны веревками. Так как усадить объемистую Марию Ивановну на такой стул было опасно, мать предложила ей табуретку.
Желтикова долго не могла отдышаться.
Я уставилась на нее: ведь неспроста же она появилась!
— Пресвятая богородица, спаси нас,— перекрестилась генеральша и села. — Все заповеди нарушаем, святость оскорбляем. Так дальше пойдет, все кукушками станем. Почему кукушка без своего гнезда? Ее бог покарал за то, что в благовещенье гнездо вила. Так и осталась птица на веки веков без гнезда. Мы вот сидим здесь и не знаем, какое чудо явилось на Сомовской улице. Не слыхали еще?
— Нет,— ответила мама.
— Это знаменье божье. Там коммунистка одна жила; принялась стирать белье в страстную субботу. Муж ее испугался, что нарушает она четвертую заповедь закона божьего, и сказал ей: «Что ты на себя беду накликаешь?» А она, коммунистка, ответила: «Не боюсь я ни бога, ни черта». Как проговорила эти слова, так и окаменела. Муж бросился обводить ее крестом, но уж было поздно. Окаменела, а рук от корыта оторвать не может. Так и стирает все. Сама вся почернела, а руки растерла в кровь. Говорят, уже несколько суток стирает беспрерывно. Стирать ей теперь не перестирать, в наказание за оскорбление святости. Я и то в воскресный день, как вышла замуж, даже волос своих не расчесывала. Ведь недаром сказано, кто в воскресенье работает, собирает на свою голову огонь вечный. Да, да, именно так!
Желтикова посмотрела на меня, будто решила, что я хочу ей возразить, и продолжала:
— Эта безбожница до сих пор стирает. Лошадей к ней прицепляли и пожарных вызывали, даже собак натравляли, а все не могут от корыта оторвать. Милиционеры тот дом обступили. Никого на Сомовскую не пускают, чтобы народ чуда не видел. Я сама бы туда заявилась, но не доберусь, и не допустят меня.
Желтикова схватилась рукой за кружевную накидку и умоляюще посмотрела на маму:
— Мария Ивановна, ради Христа прошу тебя, пойди сама посмотри, как она стирает, посмотри на чудо великое. Тебя допустят, обязательно допустят. Что это как от тебя сладко пахнет?
Мать в эти дни упаковывала на заводе туалетное мыло, и вся ее одежда пропахла духами.
— Ты сходи, сходи. Девочку возьми с собой. Она проберется, посмотрит.
Я так и подскочила: никогда еще не видела никакого чуда.
Что ж тут раздумывать! Мать согласилась — «ведь не зря же люди говорят». И мне все это показалось очень интересным.
Желтикова поднялась с табуретки, снова перекрестилась и сказала, что подождет нашего возвращения у Екатерины Семеновны.
На Газовой улице привыкли, что генеральше не сиделось в ее комнатах, когда случалось какое событие, будь то молебствие, свадьба или пожар.
Чем ближе к Сомовской, тем заметней было оживление на улицах. «Стирающее чудо» переполошило всех: и женщин и стариков. Люди шли и тут же, на ходу, спорили друг с другом:
— Туда только коммунистов пускают!
— Так ей и надо, это бог покарал ее суровой десницей!
— А стирала она на кого?
— Господь чудо послал, чтоб смирить свое стадо.
— Рабочую женщину бог не карает...
Дом на углу Сомовской. Вся мостовая запружена народом. Мальчишки лезут на ближайшие крыши. Мы сбавили шаг. На нас напирали сзади. Хочешь не хочешь, а надо пробиваться вперед.
Несмотря на обилие белых платочков и косынок, Василь Игнатович нас заметил. Всех расталкивая, он приблизился к нам. Высоко поднял мамину руку и возбужденно крикнул:
— Вот, смотрите, это не барынька! Вот они, мозоли от стирки! За что ее карать, если детей кормить нечем? И Евдоха стирала, пока не слегла! Бывало, руки в корыте, а глаза на плите. Не мощам поклоняться надо, а труженицам! Эй, праведники, расступитесь!
На меня напирали со всех сторон. Выкрики Василь Игнатовича потонули в гаме многих голосов. Но очень явственно я услышала над собой:
— Деваха, уши береги! Оторвут вместе с сережками!
А что, если действительно кто-нибудь из толпы схватит их, совсем по-другому, чем бабка Наталка? Как бы вер-
нуться обратно? Но людской поток все нес дальше и дальше. Какие-то люди вклинились между мной и мамой. Я встала на цыпочки, крикнула, но даже сама не услышала свой голос. Мне показалось, что чья-то рука тянется к моей голове.
Людская волна вынесла меня на мостовую у самого дома. Ожесточенные дядьки кого-то отбросили от дверей, и все, кто был впереди, устремились в дом, как вода в прорванную плотину.
На меня так напирали, что трудно было дышать. Я уцепилась за спину высокого мужчины, уцепилась и подпрыгнула, обхватив руками его шею. Резким движением плеч он попытался от меня освободиться, но я держалась что было сил. И тогда я услышала:
— Ладно, держись!
Так удалось мне проникнуть в дом. Когда я оставила дядьку, он даже не оглянулся.
Те, кто жил в злополучном доме, охрипшими голосами извергали на нас самые обидные ругательства. Взлохмаченная женщина держала в руке тяжелый утюг и кричала:
— Куда, дурни, лезете?! Шептуны проклятые! И так уже сало и ведро стибрили!..
И все, кто так рьяно хотел взглянуть на «окаменевшую прачку», виновато и растерянно пятились назад.
— Да никого там нет! Кухня как кухня!
— Одна брехня! «Небеспрачтрест» выдумали!
Те, кто не хотел образумиться, продолжали кричать:
— Увезли ее!
— На Сабуровой даче стирает! Там весь пар от ее стирки поднялся облаками к небу. Скоро польет как из бочки!
Не помню, как и выбралась. Шла обратно, а другие, несмотря на поздний час, все еще тянулись на Сомовскую.
Калитка нашего дома была открыта, будто и она обращалась ко мне с вопросом: «Как там на Сомовской?»
Еще издали я услыхала громкие голоса.
Желтикова сидела на лавочке рядом с Котей под окнами каменного дома. У ног терлись рыжие кошки. А рядом стояла наша Лена.
— Как это не может быть?! Весь приход верит, а она не верит, — возмущалась побагровевшая Желтикова. Увидев меня, она привстала и крикнула:
— Ох и заждалась же я, ну что, видела?!
— Ничего не видела, — ответила я.
— Как — не видела? — задыхаясь, произнесла Желтикова.
— Только ноги отдавили.
Лена торжествующе посмотрела на Желтикову, отошла от скамейки, выставила вперед ногу и громко произнесла «заключительное слово»:
— А если вы, мадам, верите, соберите все свои кружева и накидки да юбки с оборками и отнесите на Сомовскую; грешница вам бесплатно постирает. Раз она такая усердная, не только постирает, но и выгладит бесплатно, а может быть, и накрахмалит. Это совсем не так плохо. Весь Харьков в чистом белье! Никаких эпидемий не будет! Прачка получит от самого бога премиальные!
Желтикова поднялась и, размахивая своими полными руками, направилась к выходу. Кивнув головой сдержанной Екатерине Семеновне, она взялась рукой за калитку, обернулась и тихо, но отчетливо произнесла:
— Это, должно быть, ты так говоришь, потому что и твоя мать заповедь попирает.
Мама вернулась, когда стемнело. Она устала, намяла ноги, жалела о потерянном времени и ничего не хотела слушать о «стирающем чуде». Я не удержалась и передала ей последние слова Желтиковой. Мать не возмутилась, а только сказала:
— Ишь какая, для нее же старалась, а она попрекает! Как ни устала, а пошла я к Ефименко, узнать, вернулся ли Василь Игнатович.
Он уже был дома и распевал:
Обманули дурака За четыре тумака!
— Тише, Андрейку разбудишь, — сказала ему Тося. Только я вошла, он потянул меня на середину комнаты:
— Ну, скажи, мне не верят. Скажи, что никакая женщина там не окаменела, не почернела, а надо бы покарать всех буржуек и барынек, которые труда не знают, а народ обманывают.
Вера, старшая дочь Василь Игнатовича, поджала губы, обернулась в мою сторону:
— Ну?
— Нет, не видела.
— А я вот была там и все видела, — произнесла она и вызывающе на меня посмотрела.
— Да замолчи ты! — сказала ей Тося так, будто хлыстом ударила.
Василь Игнатович подскочил к Вере, схватил ее за плечи:
— Святоша безмозглая. Сейчас меня господь покарает, тоже буду трясти тебя, пока всю дурь не вытрясу!
Бабка Наталка оттащила Веру от отца, и она быстро юркнула за дверь.
Василь Игнатович долго не мог успокоиться, ругал всех церковных владык, потом с досады плюхнулся на кровать и вскоре заснул.
Бабка Наталка усадила меня и Тосю, протянула нам деревянные крючки, дала по клубку шпагата и сама села рядом.
Мать каждый раз задумывалась, чем бы нас накормить.
Часто на столе появлялся борщ «ни с чем», без мяса, без сала, а бывало, и без соли. Этот борщ мы так и называли «нисчемный борщ». Лена привередничала. Отодвигала тарелку и вставала из-за стола.
На еду не хватало, а Лена из своего последнего жалованья купила отрез марли на платье. О марле тогда мечтали, как о панбархате. Совбарышни красили марлю и шили Из нее платья.
Лена разбиралась в фасонах и носила шляпки. То и дело смотрелась в зеркало. Надвинет шляпку на левую бровь, потом на правую. Откинет голову: а так пойдет ли ей шляпка? Мать это раздражало:
— У-у, обезьяна, опять у зеркала торчишь! Мало пудры наложила.
Сестре очень хотелось, чтобы у нее скорей отросли волосы, вот она и смотрела в зеркало, будто хотела увидеть, как волосы растут.
Мать и Лена сердились друг на друга, а тут еще как-то сестра сказала маме:
— Ты займи у кого-нибудь.
— Займи?! А чем отдавать будем? На том свете угольками?
— Сергей приедет, отдаст.
Мама так гневно посмотрела на Лену, что она после этого долго не подходила к зеркалу.
Я уже хорошо знала, что, когда голодно, даже родные злятся друг на друга.
Лена все раздумывала: продать ли ей косу, которую ей состригли, когда она заболела тифом?
— Когда новая вырастет, эту продам, а пока буду ее подплетать. Пусть и Галка свою отрежет. Зачем ей коса? Даже в газетах пишут, что вошь — враг социализма. В такой косище они быстро заведутся.
Мне не хотелось расставаться с косой, и я сказала:
- Сергей приедет, тогда состригу. Лена дернула плечиками. Мать на нее прикрикнула.
— Чего ради? — ответила Лена. И все же пошла в парикмахерскую продавать свою толстую золотистую косу.
Зато Вера Ефименко, сестра Тоси, не чувствовала под собой земли. Она стала солисткой в хоре, и не в какой-нибудь церквушке, а в соборе. Приносит домой крупу, какао и разные преподношения. Когда я приходила к Ефименко, «солистка» меня не замечала.
Бабка Наталка научила меня вязать веревочные туфли.
Мы обшивали их снизу брезентом и мешковиной. Веревочные туфли носились подолгу, только надо было по нескольку раз менять брезентовую подошву, чтобы шпагат не протерся.
Я навязала их маме, Лене, себе и, конечно, Сергею — «сюрприз». А потом стала вязать и людям.
Когда вязала Сергею, не удержалась и вслух подумала:
— Ну когда же он вернется?
Бабка Наталка ко мне пододвинулась:
— А ты не жди, тогда скорей дома будет.
Я старалась совсем не думать о брате, лишь бы скорей он приехал. Приедет, и все пойдет по-другому.
На веревочную обувь мало было охотников, так как в моду уже входили деревянные колодочки с ремешками. И прочно и громко!
Тося узнала, что скоро в городе откроются все рынки: и на Основе, и Рыбный, и Конный, и даже самый главный — у Благовещенского собора. Там уже освобождают лабазы от всякой завали и ремонтируют крытый рынок.
Родя по секрету сообщил маме, что и закрытые магазины отпечатают: можно будет и торговать и покупать, продавать оптом и в розницу! Все появится! И тут же Родя объявил, что его вызывали и сказали, что он опять может считать себя владельцем своих домов и получать плату от квартирантов.
Родя не выдумывал. Он снова стал домовладельцем, сказал маме, что о квартплате он договорится с Сергеем Степановичем, когда тот вернется из командировки.
Не только взрослые, но и все мальчишки и девчонки узнали новое короткое слово — «нэп». Страна была бедна, а новая экономическая политика была введена для того, чтобы победить разруху после гражданской войны.
— Спустили торгашей с цепи, а придет время, наберемся сил, опять в будку загоним, — говорил про нэп неунывающий Василь Игнатович.
Помню, как вместе с мамой и Леной пошли мы в центр города смотреть вновь открытые магазины частных торговцев. На витринах лежали колбасы, всякие копчености и белые булки. Постояли мы у витрины — будто попили чай внакладку.
Все поражались тому, что отряды милиции больше не разгоняют торгующих. Прямо перед милиционером торговки просили за курицу пятьдесят миллионов рублей! Нет, мне не изменяет память, именно так.
По трамвайной линии ходили только площадки для вывоза мусора. Они останавливались в самых разных местах. Со всех дворов к трамвайным рельсам свозили мусор, накопленный за зиму.
Но вот задребезжали и вагончики для пассажиров, оставшиеся в наследство от конки. Их перекрасили и обновили. Плата за проезд на трамвае часто менялась: в разные часы — разная плата.
Трамвайный билет стоил пятьсот тысяч! И стакан молока на рынке — тоже пятьсот тысяч.
...Утром, как всегда, нас разбудил заводской гудок. Мать хотела подняться, но не смогла. Повернулась на другой бок и застонала.
На этот раз она не могла скрыть свое недомогание.
— Отощала я! — будто оправдывалась мама, беспокойно перебирая руками одеяло.
Нас всех выручала маленькая аптечка на стене. Отец сам пополнял ее анисовыми каплями, аспирином, касторкой, ромашкой...
Что дать маме, когда ее всю ломит, когда боль в самом сердце? Это не то что лечить кашель каплями датского короля!
Мама с трудом поднялась и, преодолевая страшную ломоту в суставах, сунула ноги в старые, стоптанные башмаки. Притихшая, испуганная, она собралась к врачу. Лена ее подбадривала:
— Мамочка, ты не худая, а тоненькая, легкая! Я вся в тебя! — И она взяла маму под руку.
Из лечебницы мать вернулась грустная. Велели ей на время оставить завод, лежать и лечить суставы, сердце; ни в коем случае не склоняться над бельем, над корытом. Дали ей незнакомые лекарства. Их не было раньше у нас в маленькой аптечке.
Я стала в доме «движущей силой»: прибирала в комнате, приносила паек. Несешь его и думаешь — как бы не выхватили, не утащили. Эх, был бы он тяжелей!
Мать курила. В деревянном ящичке держала она табак собственного приготовления, из маленьких желтых цветочков: намнет, насушит и курит, завертывая в полоски из газет. Каждую цигарку выкуривала до последней капли, даже удивительно было: как не обожжет она свои пальцы? Когда в ящичке было совсем пусто, мать «колдовала» над какой-то трухой.
Заболела и стала «дымить» еще жадней. Быстро опустел деревянный ящичек. Мука вся вышла. Ни сахара, ни чая. Пусто на полке. Денег нет. И в желудке пусто. Пустота подступала к горлу.
Еще недавно, после приезда, я была самой краснощекой на нашей улице. Когда мне говорили об этом, я еще больше краснела. А потом перестала, потому что стала такой же бледной, как и другие девчонки.
Когда хочется есть, кажется, что качаешься.
Мы знали — мама страдает желудком. Будто вороны прокаркали неприятное слово: «катар». Врач сказал, что маме необходим белый хлеб. По пайку мы получали хлеб с половой или, как тогда говорили, «с занозами». Проглотишь паек и думаешь, что бы еще съесть.
Так хотелось подкормить маму, побаловать ее белой булкой. Я верила, что это самое лучшее лекарство — мама перестанет хворать.
Иду по улице, только об этом и думаю, а мне навстречу Желтикова Мария Ивановна. Я поздоровалась, хотела пройти мимо, но генеральша остановила:
— Скажи, пожалуйста, милая, что с мамой? Говорят, что она плоха?
Я не знала, что и ответить. Стало горько, обидно. Стояла и молчала, будто немая. О чем это она лялякает? А Желтикова продолжала:
— Уксус надо с медом смешать... Я научу. Приходи... — Ее голос стал более жарким, навязчивым: — Свечу затепли! Помолись!
Я только кивнула головой и отошла.
«Мама плоха... плоха», — будто кто-то колол мне в самое сердце. «У Тоси Ефименко мать тоже была небольшого росточка. Долго болела и умерла», — неслось в голове.
Мать у нас одна. Сергей и Лена не могут заработать на лечение, на белый хлеб. И Неонила давно молчит. А вдруг мама не выздоровеет?
До дома было совсем близко, а я побежала. Влетела в комнату и увидела маму. Она стояла у комода, не спеша перебирала вещи в выдвинутом ящике. В мешочке хранились семейные драгоценности — разноцветные стеклянные бусы от украинского костюма. Мать достала и картонную коробку со своим подвенечным нарядом. Долго смотрела на восковые цветочки подвенечной фаты, той самой, в которой она была сфотографирована вместе с отцом. Перекинула через руку свой украинский костюм и сказала, что от долгого лежания он смялся: «Надо утюгом придавить».
Я разожгла утюг. Хотела погладить. Но мама сказала, что погладит сама.
Она гладила, а в глазах ее стояли слезы. Вытирала их рукавом платья и приговаривала, так же, как перед «двадцатым числом», когда корила отца. Мать кляла себя за то, что отпустила его, не пошла наперекор. «Кто тебя туда гнал! Жили бы, как все люди живут...»
Больно было мне это слушать.
Пока мать гладила, я достала из коробки пачку фотографий, завернутую в шумящий, пожелтевший пергамент. Я любила медленно разворачивать наш семейный «архив». На меня смотрели усатые и бородатые мои сородичи, малые дети, парни и девчата — двоюродные, троюродные... Всех их я освобождала от комодного плена, они выходили на волю и начинали со мной разговаривать.
Каждый раз я заново знакомилась с ними, настойчиво приставая к маме: «А это кто?», «А это кто?» И всегда ждала, когда очередь дойдет до деда-солдата, маминого батьки.
— Видишь, на груди-то, георгиевский крест! За подвиги! А как зачнет, бывало, петь: «Эх, бытье, эх, житье!» -со всего села собирались перед нашими воротами.
На этот раз мама только взглянула на фотографию деда и ничего не сказала.
На самом низу пачки я увидела незнакомую фотографию. Ее не было раньше. Нет, не померещилось: ни бородки, ни усов, а глаза его. Такой еще молодой! Лицо светлое, беззаботное! В белой косоворотке... Мой отец!
Я смотрела и не могла насмотреться. Будто издалека услыхала, как мама произнесла: — Скромный был, вежливый!
Мне показалось, что волосы у отца колышутся от ветра. По ясно очерченным губам пробежала улыбка. А глаза задумчивые...
Я отложила фотографию. Наклеила ее на картон и повесила над кроватью, выше Сережки.
...Не на трамвае, а пешком добралась я до Благовещенского рынка. Сокращенно его называли «Благбаз». Не на Рыбном же базаре продавать мамины бусы!
Мы долго совещались, какую назначить цену за бусы. Зеленые, красные, они переливались жемчужным блеском. Лена смотрела на них и с восторгом и с сожалением.
Мама вспомнила, как она еще дивчиной сама нанизывала каждую бусинку на нить.
Лена тут же удвоила мамину цену. А мать сказала:
— Базар цену скажет.
Что ж он скажет? Я держала связку в руке, никому не глядя в глаза. Знала только, что нужно держать крепко-крепко, чтобы никто не выдернул.
Какая-то молодая покупательница хотела примерить
бусы, но я не позволила. Ей же бусы так понравились, что она и без примерки дала мне Ленину цену.
После этого я боялась, как бы не вытащили у меня полученные миллионы. Как ни боялась, а раз такая удача — надо всего накупить, чтобы не урчало в желудке.
Первым делом решила побаловать маму. Мальчишки-папиросники, с лотками через плечо, сновали повсюду. Это был самый голосистый народ. Они выкрикивали и распевали.
— Рассыпные! Рассыпные! Пап-пиросы «Тары-бары», пап-пиросы «Пупсик»!
— Спички шведские, головки советские! Сами горят — гвоздикой пахнут!
— Дамочка на коробочке! Дамочка на коробочке!
— Самосад! Самосад! Кому «Белку»? «Белкой» угощаю!
Вот это для меня. Я купила стаканчик махорки. Взяла и в упаковке восьмушку.
Не шла, а бежала домой: хотелось, чтобы мама и Лена скорей узнали о моей удаче.
Принесла настоящие белые «франзольки» — французские булки с хрустящей корочкой. Пир горой!
Но мама на них и не взглянула. Она схватила пачку махорки и даже затряслась... Сквозь махорочный дым я видела довольное мамино лицо. Она жадно затягивалась, будто цедила дым сквозь зубы.
Курит, мамка, родная! Дымит, как паровоз! Если я сейчас прижмусь к ее губам, все испорчу, мама обожжется, рассердится.
Раньше я досадовала, когда она напускала дыму, а тут забралась на кровать и начала подбрасывать вверх подушки. Много подушек. Я даже подумала: «Можно продать». Прикинула цену и, зажмурившись, произнесла про себя: «Глаза-то не сзади, видите, что покупаете!»
— Ах ты умница моя! Ну и побаловала! — сказала мама, вволю насладившись крепкой махоркой.
Какая же я умница, когда на эти деньги могла бы столько булочек накупить? Самые крохотные, но очень аппетитные на вид булочки назывались на Благбазе «одноглотками». За каждую «одноглотку» надо было тысячи платить. Но и каждая мамина козья ножка стоила не дешевле.
Я продала только одну нитку бус, а их было еще несколько. С бусами я ходила на Благбаз. Один раз накупила всякой еды, а на самосад поскупилась. Мать так раскапризничалась, говорит:
— Доченька, что мне хлеб, когда курить так хочется! Ну и разбаловала я маму! Бывало, посмотрит на меня
с такой просьбой в глазах и ничего не скажет. И так вся продымилась, зубы и пальцы пожелтели, за версту от нее табаком несет, а ей доставай и доставай махорку.
— Где ж я достану? Брось, мать, курить! — как-то сердито сказала я маме.
А она в слезы, как маленькая.
...Папиросников называли тогда «табаккрошками». Они признали меня, как покупательницу с легкой рукой. Подзывая, кричали:
— Сестричка!
Среди них были и ребята с нашей улицы. Самым приметным был низкорослый Колька Черепков, по прозвищу «Черепок». Он был будто в сговоре с жарким харьковским солнцем. Оно обжигало его так, что лицо загорело, а волосы, брови и ресницы все сильней и сильней отбеливались. Черепок не отворачивался от солнца, не мигал, не щурился. Прямым взглядом своих светлых глаз он привораживал к себе, и покупателей курева, несмотря на то что из-за лотка его чуть видно было.
Мать Кольки умерла в эпидемию сыпного тифа. Колька среди всех своих белоголовых сестер и братьев был старшим, а самому младшему было чуть больше года. Отец Кольки, дядя Саша,— высокий, широкоплечий. Про таких говорят, что они собой потолок подпирают. Он работал на заводе Дитмара литейщиком.
Колька рассказывал, что его отец так вырос уже после того, как был взят в солдаты. На фронте он двойную порцию получал. А теперь ходил всегда голодным. Паек ему был как «одноглотка». После работы на заводе он перекладывал трамвайную линию, чтобы еще несколько «глотков» заработать.
Тогда рабочие ходили как сонные, от истощения у станков падали.
Дядя Саша не сдавался. Зато старшему его сыну только и была забота — чем бы еще отца накормить, как бы доглядеть за малышами, как бы кто нос не прищемил...
К Черепковым наведывались и Тося Ефименко, и другие наши девчонки, возились с «черепками», пока Колька торговал на Благбазе.
Распродаст он папиросы, тут же на рынке купит молоко и скорей бежит домой, чтобы отпустить девчонок.
...Каждый раз я задумывалась, что бы еще «загнать» на хлеб и махорку?
Дошла очередь до украинского костюма.
Шла я медленно, долго раздумывала, где мне лучше встать; по рядам ли ходить, или расположиться возле молочниц?
Базарники орали во все горло, расхваливали, кто жареные оладьи, кто ряднину, кто липкий ядовитый мухомор, буквы для галош, шпильки-невидимки и «крем-мазь»...
Базар-то был один, шумливый, душный, но в каждом его ряду был какой-то свой запах, свои продавцы, свои покупатели.
Несколько раз я видела на Благбазе и Василь Игнатовича. Он не лез в толпу, а ходил мелкой рысцой с места на место, будто трясла его лихорадка. Картузик, надвинутый на лоб, касался оправы очков. Зарос седой щетиной. Очень сконфуженно и негромко он что-то шептал. В руке держал ерши для чистки лампового стекла.
Я прошла мимо старух, разложивших напоказ тряпичную рухлядь, пахнувшую нафталином.
Хмурый человек продает на руках галифе с леями: одна кожаная лея квадратная, другая — круглая. Уверяет, что этим галифе «сносу не будет».
«Ну и заплаты! — подумала я. — Нет, вышитый костюм могут оценить только молочницы. И лица у них не такие изможденные, как у городских, и всяких «излишков» много. Так и пахнут сливочным маслом!»
И вот я перекинула на одну руку вышитую рубашку, на другую — передник, плахту и разноцветные ленты. Передник был весь вышит красными и черными нитками. На рукавах рубашки, как живые, алели крупные розы.
Молочниц удивил мамин костюм. Говорок как ветерок прошелся по их ряду. Некоторые смотрели на меня с сожалением. Одна подошла и схватила рукой ленты. У нее было такое жирное лицо, что я подумала: «Должно быть, и руки жирные, как бы не измазала».
— Сколько за фартук?
Я мотнула головой:
— Покупай весь костюм.
— Ишь, — сказала молочница и отошла.
Подошел дяденька, долго-долго смотрел, что-то соображая, а потом сказал:
— Мне подштанники треба.
Словно поблекли мои розы, сникли на солнцепеке. Как хотелось в ту минуту перенестись в степь, где цветут тюльпаны!..
Я молчала. Уже заранее мне был неприятен «тот» или «та», кто купит мамин костюм.
Базар цену скажет! А какая цена тому, что было любо маме, тому, что наверняка было дорого и мило моему отцу?..
Нет! Залуплю такую цену, что даже у постоянных рыночных «седух», которые привычными движениями подсчитывают выручку, глаза на лоб полезут!
Я вздрогнула, когда увидела, как смотрит не на меня, а на вышитую розу дивчина с черными глазами. Как это я сразу не узнала ее? Это же Ада! Приемная дочь Коти и Роди. Обычно она меня будто и не замечала. Значит, не напрасно так смотрит! Зачем ей такой костюм? Мало ли зачем, просто так, интересуется, чтоб Коте и Роде рассказать.
Ада вплотную подошла ко мне. Молча взяла рубашку и приложила к моим плечам:
— Что ты делаешь? Не продавай! Ведь он тебе в самый раз! — умоляюще произнесла Ада.
Я растерялась, а потом сказала:
— Да... не продавай. А маме что скажу? Ада потянула меня:
— Пойдем, пойдем!
Я пошла за ней. По дороге рассказала, что уже давно отнесла на рынок все бусы: хлеба нет, а мать требует и требует махорку...
Ада же поведала мне, что ее приемный отец, Родя, каждый день посылает ее продавать то нитки, то иголки для швейных машин, резину для подвязок. Все это быстро разбирают.
— А ты ирисками торгуй, — посоветовала мне Ада.
— А где я их возьму?
— Пойдем купим.
— Махорки не на что купить.
— И махорку купим. Я тебе денег дам. Я вспомнила, как мать в таких случаях говорила: «Чем отдавать будем, на том свете угольками?» И наотрез отказалась.
— Ты не беспокойся, продашь — отдашь. У нас денег много. Я раз в неделю перед Родионом Ефимовичем отчитываюсь. За это время ты обернешься, никто и знать не будет.
По дороге Ада сама купила пачку махорки для моей мамы и повела меня по спуску от Благбаза к дому, где в полуподвале какие-то знакомые Клепцовых делали ирис, пекли булочки «одноглотки» и даже разливали по бутылкам напиток, под названием «кишмишевка».
Побыли мы там немного, а в носу уже щекотало от приторного запаха сахарина и каких-то таинственных веществ. Хотелось не то кашлять, не то чихать.
Зато ушли не с пустыми руками. Ириски были уложены в плоскую фанерную коробку.
Вместе возвращались домой. Ада оказалась словоохотливой.
Раньше я думала про нее: «Вот счастливая девчонка, у них же куры золото не клюют». Ада говорила, и с каждым ее словом я догадывалась, что не так уж она счастлива. Рассказала, что у нее много нарядных платьев: и ситцевое, и из перкаля, и даже клетчатое розовое... А за кошками ухаживать ей так противно, что сил нет.
Каждый год Котя устраивает елку для своих кошек: навешает на веточки кусочки сала, колбасы и сосиски, а сама сидит и любуется, как рыжие подпрыгивают к «украшениям», терзают елку...
Екатерина Семеновна прямая, как столб, потому что всегда в корсете. И этот корсет ей затягивает Ада: «Недотянешь — сердится, а туго — тоже кричит».
Родя хочет из Ады «человека сделать», а не белоручку, потому и на Благбаз посылает — оборот делать; говорит, что мальчишкой и он «с мелочей» начал.
Своего настоящего отца Ада совсем не помнит.
На следующий день с новым «товаром» отправилась я на Благбаз. «Ирисницы» шныряли по всему рынку. Я прошла мимо такой же девчонки, как и я. Курносая, она распевала, как певчая птичка:
— Жорж Борман! Жорж Борман! Ирис как шоколад Жорж Борман!
Я решила уйти подальше от певуньи, так, чтобы ничего больше не слышать о Жорже Бормане.
Только сделала несколько шагов, как услышала другой голосок:
— Сочный, молочный!
В это время меня остановил мужчина в широких штанах, сшитых из мешка. Во всю длину штанины тянулась синяя полоска.
— Эй ты, мешок с лампасами! — крикнул ему какой-то прохожий не то от зависти, не то от удивления.
— Почем леденцы твои? — спросил меня «мешок с лампасами».
— Триста тысяч, — промолвила я робко.
Он приподнял штанину, достал деньги из сапога.
— Сами просятся! — сказал он и купил у меня пять ирисок, на полтора миллиона. И сразу же, все пять штук, засунул в рот.
В это время я снова услышала совсем близко: - Жорж Борман! Жорж Борман!
Девчонка будто пришла на Благбаз не торговать из-за нужды, а только петь и прыгать, скакать с места на место.
И мне бы следовало расхваливать ирис. Я несколько раз набирала в рот воздух, но никак не могла отважиться. Да и не могла подобрать подходящих слов.
Эти черненькие, малюсенькие ириски напоминали мне приторный полуподвал. Не сливочные, не молочные, а кусочки какой-то тонкой, подслащенной подметки.
Туго шла торговля. Еще продала несколько штук и почти с полной коробкой вернулась домой.
Сливочный и сочный! А сколько он мне бед доставил. Хоть и нехотя, а стала и я, краснея, расхваливать ириски.
Приду домой, спрячу коробку с ирисками под комод; так находишься и накричишься, что сон сразу одолевает.
Хоть полчаса, а спала я сладко. В это время Лена лезла под комод за ирисками. У меня сон сладкий — у нее во рту приторно.
Я только убытки подсчитываю. Никак не могла полностью Аде долг вернуть. Хорошо, что она не торопила.
Я стояла спиной к двери. Лена и мама его увидели и обомлели. А он дал им знак, приложив палец ко рту, легко и бесшумно подошел сзади и ладонью прикрыл мне глаза.
Я, конечно, поняла, кто мог так сделать, но тоже растерялась. Зато я первая повисла на его шее.
Сергей отстранил меня и подошел к маме.
— Насилу дождалась, — промолвила мать.
Лена закружилась вокруг Сергея, теребила его за гимнастерку, за волосы и радостно взвизгивала.
Мать дрожащими руками зажгла большую керосиновую лампу. Свет от лампы отразился в наших широко раскрытых глазах. Не до сна, когда такая радостная встреча.
— Что, состарилась? — тихо спросила мама.
За несколько минут до того, как вошел Сергей, она ходила по комнате пригнувшись, а сейчас и морщинки куда-то исчезли. Мама выглядела, будто пришла с мороза.
Сергей улыбался.
Большая кобура с револьвером притягивала Сергея книзу. Но все равно в нашей маленькой комнате он казался очень большим. А лицо, как прежде, полное, краснощекое. Только ноги какие-то тонкие.
На Сергее была выгоревшая, неопределенного цвета гимнастерка с чужого плеча, заложенная многими складками за широкий ремень. Мы сняли с него и ремень и гимнастерку; Сергей сопротивлялся, а мы и ботинки стащили, и обмотки размотали.
Мать согрела чугун воды...
В белой сорочке, с мокрыми волосами, он притянул меня к себе:
— Галинка-малинка, как выросла! Ты у нас теперь как жердочка!
Я вспомнила, как отец карандашиком отмечал наш рост у двери. Мать замазала все отметки, когда белила. Материнскому глазу не нужны отметки.
Хоть заново всем нам у двери отмериться.
Впервые собрались мы вместе, под одной крышей, без отца. Мать смотрела на нас и думала о нем. Как я узнала об этом? Да просто поняла сердцем.
Сергей лукаво улыбнулся и начал задавать вопросы. Бывало, так и сыплет ими, когда кто-нибудь грустит или плачет, а станешь ему отвечать — он и не слушает, все свое рассказывает...
На этот раз он привез не очередной фокус-покус, а загадку с кошками; проговорил он ее быстро, как скороговорку:
— В комнате четыре угла. В каждом углу сидит кошка. Насупротив каждой кошки по три кошки, на хвосте у каждой кошки по одной кошке. Сколько всего кошек в комнате?
Не сводя глаз с Сергея, Лена начала вычислять:
— Четыре кошки в углах, по три кошки против каждой, значит, еще двенадцать; четыре и двенадцать -шестнадцать, да на хвосте каждой по кошке — еще шестнадцать. Всего, значит, тридцать две кошки. Вот бы их всех в мешок и в подарок Коте и Роде!
— Придется подарить всего четыре кошки, — сказал Сергей. — Ведь каждая кошка в углу на своем же хвосте сидит!
Мать привернула фитиль в лампе. На темном потолке возник светлый кружочек.
Все улеглись.
Спать хотелось, а не спалось.
Сергей уже не смешил. Он тихо рассказывал, что видел и слышал.
Мне казалось, что все это я узнала с телеграфной ленты...
На юге Украины недород. Дети от голода грызут руки. Малышам руки завязывают, чтобы пальцы не грызли. Люди едят хлеб из репейника, питаются трухлявым деревом и опилками. Всю солому из тюфяков повытаскивали...
Мать задула лампу.
Когда я проснулась, Сергея уже не было дома.
Несколько раз в окне с улицы появлялась и исчезала голова Андрейки. Ему не терпелось повидать Сергея.
И я весь день не находила себе места.
Сергей пришел, когда уже было темно, и мы не сразу его узнали. На нем было все новое, начиная с фуражки, кончая сапогами. И все кожаное, скрипучее: галифе, куртка, ремни.
Мы с сестрой завизжали от восторга, а мать растерялась...
Сергей рассказал, что кожаный костюм он получил не по ордеру, а по приказу как награду.
Мать, не говоря ни слова, полезла в комод, долго в нем рылась, пока наконец извлекла маленькую коробочку с карманными часами отца. Отцовские часы брат положил в верхний карман кожаной куртки.
Лена подвела Сергея к зеркалу. Он хоть и протестовал а все же посмотрел на себя и улыбнулся.
Лена стянула с него фуражку и стала примерять и так и этак, будто это была соломенная шляпка, покрытая блестящим лаком.
Я не могла наглядеться на брата.
Вчера еще гимнастерка на нем была линялая, а в кожаном костюме он выглядел, как броневик.
Утром, когда я вышла открыть ставни, Андрейка, заложив руки в карманы, уже стоял у окна.
Сергей вышел на улицу, перекрещенный кожаными ремнями.
И раньше, стоило ему постоять у дома, к нему бежали мальчишки; теперь же слух о том, что Сергей вернулся домой большим комиссаром, облетел всю Газовую.
Сергей любил показывать фокусы. Он сцепил свои руки выше кистей:
— А ну, кто разнимет?
С одной стороны схватили его руку несколько ребят и за другую ухватились столько же. Раскачали, а руки не разняли.
Брат был доволен: — Не только у меня, но и у Андрейки не разнимете.
В центре внимания стал Андрей Петрович.
— Держись пальцами покрепче! Только, чур, братва, не давить, а тяните по-честному, — предупредил Сергей.
И Андрейка оказался непобедимым, несмотря на нанор «силачей».
Все свои головоломки «фокусник» сразу же раскрывал и объяснял:
— Ведь ладони-то мои как узел: чем сильнее тянете, тем узел крепче.
Мальчишки не расходились, а Сергей придумывал все новое и новое:
Ну, а кто из вас миллион рублей по одному рублю сосчитает: один рубль, два рубля, три рубля... Сразу же нашлись охотники считать. Кто до тысячи дошел, кто сбился со счета...
— Считайте, пока язык не заболит, миллионеры! — расхохотался Сергей.
Счет прервал настоящий миллионер — Родион Ефимович.
— Заждались, заждались, — говорил он, лоснясь улыбкой.
Родя оттеснил мальчишек и завладел Сергеем, увлекая его к нам в дом. Бесцеремонно уселся за стол, будто его в гости пригласили.
— С кем же мне посоветоваться? Степана Митрофано-вича нет. А ты, законный наследник, превзойдешь отца. Этот дом будет знаменит тем, что в его стенах ты провел свое детство.
Родя хотел разрешить многие свои сомнения. Больше всего его мучило — открывать ли ему собственную торговлю или нет? В Пассаже еще пустует магазин, в котором помещалось «Дамское счастье». Долго ли продлится нэп? Можно ли пуститься в такое плаванье? А не отберут? Всем этим интересовался Родя. На лице его выступил пот. Он схватил Сергея за пуговицу кожаной куртки:
— Говорят, всех нэпманов потом переселят на окраину. Я и так всю жизнь живу на окраине. Мой отец был трубочистом. «Кто был ничем, тот станет всем!» Я тоже хочу быть «всем»! Только напрасно у меня с чердака три подводы галантереи вывезли, — вспомнил Родя о недавнем обыске.
— Должно быть, еще несколько подвод осталось, — рассмеялся Сергей.
— Мне не жалко. Кнопки, булавки — не товар, — вслух Рассуждал Родя. — Теперь нужда в чем-то более существенном. Вот если бы открыть торговлю мехами, скобяными изделиями или оптом продавать каустическую соду!
Я удивилась, каким терпеливым и вежливым, даже хитрым стал наш Сергей. Он не только не отговаривал Родю, но подзадоривал его, желая успеха на торговом поприще.
Лена не удержалась, хмыкнула. А когда Родя ушел, сказала:
— Как вояка ходит! Переодеванный буржуй!
А я думала о Сергее: с характером он или бесхарактерный? В глазах его какой-то новый блеск.
И эти же глаза — такие веселые, насмешливые, несерьезные...
Сергей и раньше не хмурил брови, а теперь задумается на мгновение и опять улыбается. Зато, уж если что решит свою линию ведет.
Я любила сидеть рядом с отцом, когда он молчал, будто что-то внутри себя слушал. Мне хотелось и с братом побыть вдвоем...
Приехал Сергей, и маме стало лучше. Забросила банку с салициловой мазью и стала говорить, что ей теперь все нипочем: со дня на день пойдет на завод. Ранним утром, когда еще молчали гудки, мать разбудила нас, накормила, а раздался гудок — она переступила порожек и не спеша вышла из дому.
Лена что-то искала, потом заспешила, поцеловала Сергея в лоб и понеслась на каблучках.
Мы остались вдвоем. Сергей начал разбирать на столе наган. Я дала ему много тряпок. Подставила к табуретке маленькую скамеечку и села рядом. Так, бывало, я сидела и у ног отца. Сергей не перебивал меня, а внимательно слушал, не задавал никаких вопросов.
Вспоминала я разное, что говорил мне отец. И то, как мальчишкой жернова крутил, а когда учился в телеграфной школе, за копейки очищал рельсы конки от снега. Рассказала и о том, как не удалось отцу побывать на концерте Шаляпина, как попал он в больницу с переломанными ребрами...
Сергей притих, даже чистить наган перестал, когда я рассказывала о налете бандитов на городок, о речи военного комиссара над братской могилой, как про отца нашего он сказал:
— Работал как коммунист и умер коммунистом! Сергей опять принялся за наган:
— Знаю я этих обиженных сынков!
Я удивилась — ведь на знамени бандитов, которое видел доктор Мирер, было написано: «Сыны обиженных отцов».
— Это их лозунг, — сказал Сергей. — Кулачье! Пусть на себя обижаются. Белые офицеры, обиженные революцией купчики. Если дать им волю — всех сожрут. Сколько их еще притаилось!
Сергей поднялся. Крупными шагами он мерил нашу тесную комнату, угрюмо смотрел под ноги, но то и дело натыкался на угол стола или комода.
— Синяков набьешь, — осторожно предупредила я брата.
Он не расслышал. Никогда не видела его таким взволнованным.
Сергей посмотрел мне в глаза и крепкой своей рукой нежно погладил меня по голове.
...Кожаный костюм примялся за несколько дней, не так уж скрипел и блестел, а карманы оттопыривались от обилия разных бумаг.
Брат все реже и реже бывал дома: приходил или «отоспаться», или «на минутку».
Мы никогда не знали, где Сергей. В Харькове ли он или где-нибудь в Ахтырке или Змиеве? Вернется с одного задания, уходит на другое. Идет с винтовкой то в ночной патруль, то сопровождает поезда. Ни от каких нарядов и командировок не имеет права отказываться. Часть, где он служит, охраняет порядок, борется с контрреволюционерами и бандитами на железнодорожных линиях и ветках, на станциях и вокзалах.
Не обо всем он имеет право рассказывать, даже маме.
«Может быть, навсегда Сергей уходит из дому?» — с тревогой думали мы, но никогда об этом не говорили...
Как-то брат прибежал, схватил котелок с кашей и, только когда опустошил его, с удивлением спросил:
— Странный вкус, чем ты полила кашу?
Тут-то я и сообразила, что мать принесла лампадное масло в бутылке из-под подсолнечного. Почти шепотом я ответила:
— Лампадным маслом.
— Смотри, в следующий раз керосином не залей. Однажды Сергей сам попросил меня принести ему еду на Балашовский вокзал. Послали его туда на несколько дней — помогать «особуполномоченному». Я долго искала помещение, в котором должен был находиться «особуполномоченный».
На вокзал в это время прибыл поезд с детьми из Поволжья. Все скуластые, глаза большие, впалые; множе ство морщинок на лице и ни кровинки... Один мальчишка медленно собрал кожу на лбу и оттянул ее пальцами.
Ребята жались друг к другу, будто не могли согреться
Сергей был где-то на путях. Я не стала его ждать, оставила котелок на письменном столе «особуполномоченного» и поспешила уйти. Шла и видела перед собой девчонок и мальчишек в отрепьях.
...Чтобы спасти голодающих, началось изъятие церковных ценностей. У Москалевской церкви прихожане камнями забросали красноармейцев.
Христа продали! Красные уголки завели! Пусть голодающие жрут друг друга, а бога в обиду не дадим, не дадим церкви запечатать пятиконечной печатью антихриста...
Сергей рассказывал нам, как прячут в подвалах, на чердаках, по квартирам архиерейские митры, осыпанные алмазами и бриллиантами, золото с икон, серебряные купели.
— Попы могут только кадильницей махать над умирающими детьми, вместо того чтобы спасти их от голода. Всех бы «святых отцов» да в голодную губернию! — говорил Сергей.
Кожаный костюм брата стал раздражать фанатиков. Они пустили слух, что изъятые церковные ценности пойдут не на помощь голодающим, а разойдутся по карманам брюк, галифе и кожаных тужурок комиссаров.
Когда в одной церкви Сергей взял в руки серебряную дарохранительницу, какая-то женщина укусила его за палец.
Мать плакала по ночам, молилась за сына.
Когда она выходила из дому, ее подстерегали знакомые и незнакомые и бросали ей в лицо:
— Не простит бог твоего Сережку за святотатство!
— Глумится Серега над святыми таинствами, над святыми иконами!
— Аль ты не крещеная? Уйми сына, изгони из него лукавый нечистый дух!
Однажды Сергей пришел очень усталый, сказал, что хочет отоспаться.
Мать пришла с вечерней смены, а он уже спал.
И я притворилась, что сплю.
Мать села возле Сергея, задумалась, не спуская глаз его лица. Потом бережно поправила ему волосы, спутав-лиеся на лбу. Я вспомнила, как мать говорила соседкам, что детей можно ласкать, только когда они спят, чтобы не набаловать. Может быть, и на меня мать вот так же смотрит, когда я сплю...
Кожаную куртку Сергей повесил на спинку стула. Галифе положил на сиденье, штрипки со штанин свисали на пол. Вид у стула был грозный. Мать переложила галифе так чтобы штрипки не касались пола, и осторожно поправила куртку.
Пришла Лена. Она старалась двигаться как можно тише, ведь Сергей как бы ни хотел спать, а просыпался от каждого шороха.
Сестра улеглась, и я зарылась в подушку... но услышала, как ветер двигает ставни.
Нет, кто-то стучит.
Сергей вскочил, засветил электрический фонарь и пошел к дверям. Он впустил человека с непокрытой головой.
Мать проснулась, зажгла лампу. Я протерла глаза и узнала Василь Игнатовича. Все мы вопрошающе смотрели на позднего гостя: не случилось ли что?
— Верку свою выгнал. К Желтиковой убежала,— выпалил он дрожащим голосом.— Так и сказал ей: «Вот тебе бог, вот и порог!» В книжном шкафу припрятала она ико-нУ в драгоценных украшениях и евангелие в серебряном переплете. Говорит: «Икона чудодейственная, людей от мора спасет». У ней, у Верки, в голове не мозг, а мякина.
Василь Игнатович увидел у нас в углу маленький деревянный образок, подошел к нему и продолжал будто обращался только к Николаю-чудотворцу:
— Как евангелие велит поступать во имя спасения ближнего? На что богу переплет? На что богу дорогая одежда? Если он такой всевидящий, всеслышащий, разве не известно ему, как дети точно кролики кору с веточек грызут?! За серебряный переплет скольких можно спасти от смерти!
Николай-чудотворец молчал.
Василь Игнатович обратился к маме:
— Зачем богу золото-серебро? Ведь голодным надо дать
не камень в руки, а хлеб. Пусть службы совершаются в деревянных чашах и холщовых ризах, как в старину.
Мама молчала. Тогда Василь Игнатович повернулся к Сергею:
— Ну, иконы и переплет в комиссию отнесу. А с дочкой что делать? И Тоську хотела к клиросу приучить. Не пошла младшая. А Верка все делает, как дьяк велит. Кто с кем! — уже как бы сам себе сказал Василь Игнатович.
— Дядя Василь, а ты в погреб лазил? У вас и под домом подвал просторный. Может, и там что спрятано? — сказал Сергей и улыбнулся.
— Вот это ты молодец! А я думал, за что Сережке кожаный костюм дали? Своим умом живешь! Табачок есть? — спросил он маму.
Мать пододвинула к нему деревянный ящичек. А я опять уткнулась в подушку.
Утром Сергей поднялся и начал прощаться, жалея, что «проспал» Лену.
У матери потемнело лицо. Она сказала:
— Разве вас удержишь.
Сергей приподнял маму и поцеловал.
— Скоро, мама, все мы здорово заживем! Будет не только белый хлеб, но и сдоба! Я тебе буду приносить пирожные,— говорил Сергей. — А ты, Галинка, не теряй время — как можно больше переписывай из разных книг. Не беда, что лет мало, зато рослая. Будет хороший почерк, устрою тебя переписчицей в штаб.
Последние слова он произнес, когда уже вышел из дома.
Сергей не хотел, чтобы мы его провожали. Неужели не оглянется? Сергей оглянулся.
ехал Сергей, и мать снова начала руки и ноги мазью растирать. На завод ходила по-прежнему.
Как-то не удержалась она и, неизвестно к кому обращаясь, произнесла:
— Даже пачку махорки матери не привез! Лена тут же ее утешила:
— Мама, ты не знаешь своего сына: он не просто ком-сомолист, а при этом еще идеалист. А идеалисты не думают о махорке. Зато мне Сережа чего только не наобещал! Он вернется, и меня примут на сцену бывшего Императорского театра!
С этими словами, подняв голову кверху, Лена исчезла. Она спешила в кино «Зеркало жизни», где шел боевик, под названием «Лихо одноглазое».
Лена уже несколько раз смотрела эту картину и так много о ней тараторила, что мама не вытерпела и сказала ей с сердцем:
— Лихо ты мое двуглазое!
Я полезла к сестре под матрац. Там хранила она завернутую тетрадь в клеенчатой обложке. Лена записывала в тетрадь песни, куплеты, стихи и романсы. На первой странице она вывела каллиграфическим почерком: «Чтец-декламатор». И вот когда Сергей посоветовал мне, не теряя времени, стать переписчицей, я прежде всего вспомнила о «Чтеце-декламаторе».
Сестра получала по рисованию и чистописанию пятерки. Знала, где нажимать, где ослаблять перо. Все буквы ровные, красивые.
И я сшила «альбом» из чистых листов, найденных в старых тетрадях сестры и брата, да в папке отца нашла бумагу. Если посмотреть на свет, на ней светятся вензеля, как на бумажных деньгах. Поставила перед собой чернильницу-непроливайку.
С напряжением водила я пером по бумаге, переписывала стихи и так увлекалась, что забывала сидеть прямо, ложилась грудью на стол и, откладывая перо, тихонько напевала то, что мне особенно нравилось:
В лесу над рекой жила фея, В реке она ночью купалась И раз, позабыв осторожность, В рыбацкие сети попалась.
Я воображала, что, как только перепишу всю тетрадь хорошим почерком, не дожидаясь Сергея, сама поступлю переписчицей в штаб или другое учреждение.
Светлая комната. На стенах плакаты. Я сижу за высокой конторкой — такую видела я на главной почте. В комнате — военные. Начальник мой — комиссар! Приносят телеграммы, я расписываюсь и первая их читаю.
Буду стараться всем походить на Олесю. Уткнусь в бумаги, а сама буду все видеть, все слышать. Надоест сидеть на одном месте — встану, пройдусь твердым шагом... Тоже буду ходить в гимнастерке. А зимой в полушубке нараспашку... Жалованье и паек буду отдавать маме.
И вот настал день, к которому я так готовилась. «Чтец-декламатор» начисто переписан в «альбом». На первых страничках не все буквы хороши, а чем дальше, тем они красивей. Никаких крючков и завитушек. Не хуже, чем у сестры.
Я не могла наглядеться на свой почерк. Он решит мою судьбу.
Заранее припасла две мамины шпильки, собрала волосы в пучок и заколола их перед зеркалом. Надела мамину юбку и кофточку сестры.
Буду просить, чтобы послали на работу, скажу: «Сами понимаете!» — и посмотрю прямо в глаза. Скажу, что не только пишу красиво, но и на Морзе работать умею!
Я отправилась тем же трамваем, что и на Благбаз. Там и слезла.
За рыночными рундуками и лабазами — ближе к Ло-пани — возвышалось угловое трехэтажное здание. Войти в него можно было только через одну дверь. А для этого в ход пускались тумаки и подзатыльники, будто и там можно было увидеть какое-то «чудо». Все, кто толпился у двери, пробивая себе путь локтями, хотели только одного чуда — работы.
И вот я оказалась в огромном зале. Хмурые, озлобленные люди толпились у стен, сидели на полу, курили. Накурено так, что ничего не видно.
На стене висела грифельная доска. На ней мелом было выведено непонятное мне слово: «Такелажники». Это означало, что требовались такелажники. Так называются мастера, которые поднимают и собирают тяжелые части больших машин. Слово на черной доске только раздражало безработных; такелажников уже набрали.
Мрачный дядька, в шинели с распущенным хлястиком, громко выругался и со злобой посмотрел на доску.
— Хоть бы стерли, — сказал он и безнадежно махнул рукой.
Своим жестом он будто перечеркнул все стихи в моем «альбоме». Неужели я зря старалась?
Люди толпились у небольших окошек в деревянной перегородке вдоль стены. Открывались окошки, и все к ним бросались.
Да разве могу я получить здесь «путевку», когда столько взрослых, крепких и сильных просят работу! Хотела уйти и не решалась: а вдруг на доске появится слово «переписчица»! А что, если, как телеграмма «молния», появится надпись: «Требуется телеграфистка-морзистка». Я бы добралась до окошечка, просунула туда тетрадку. Не зря же старалась. Пусть посмотрят. «А вдруг!..»
И я посторонилась. Высоченный мужчина наступил мне на ногу. Он всех расталкивал, действовал так горячо и напористо, что перед ним, даже здесь, расступились. Я посмотрела вслед и узнала его по широким плечам, по крепкой шее. Конечно, это он. На его спине я въехала в дом на Сомовской улице, чтобы своими глазами увидеть «стирающее чудо».
Я решила пробраться к нему поближе и стать рядом: может быть, он опять мне поможет. Я смотрела на него, а он не спускал глаз с окошка.
— Нужен плотник!
— Я плотник! — громко крикнул мой знакомый. Но путевка на работу досталась не ему.
— Нужен каменщик!
— Могу! — заревел мой знакомый.
Через некоторое время человек, сидевший за окошком, высунулся и крикнул как-то особенно торжественно:
— Есть место конструктора на Электромеханический завод!
— По моей специальности! — радостно крикнул мой знакомый, загородив собой окно.
— Чудак! Для такой работы не твою нужно иметь голову. Он и каменщик, он и конструктор! — с возмущением произнес человек в окошке.
Окно захлопнулось.
Мой знакомый начал гневно стучать кулаком. Стучал до тех пор, пока снова не открылось окошко и уже другой человек спокойно спросил:
— В чем дело?
— Я конструктор. Не могу найти работу. Я специалист по моторам и дизелям. Испытайте, тогда узнаете, какая у меня голова. — И он бросил на барьер целую пачку бумажек.
Снова закрылось и снова открылось окно.
Мой знакомый быстро, одной рукой заграбастал свои документы, а другой схватил долгожданную путевку. Даже смял ее. Отошел не сразу. Разгладил бумажку и несколько раз пробежал ее глазами.
Я осмелела и толкнула его в бок:
— Узнаете?
Он вытаращил на меня глаза. Потом засмеялся, да так громко, что все обернулись. Должно быть, подумали, что это он от радости.
— Помню, помню. Цепкая девчонка!
Я протянула ему тетрадку. Он сказал мне:
— Пойдем!
Мы вышли на улицу. Сбивчиво и невпопад я рассказала ему, что привело меня на Биржу труда, и почувствовала облегчение, когда произнесла наконец: «Сами понимаете!»
Он посмотрел в тетрадку, открыл и закрыл ее, как окошко, и сказал:
— Понимать-то понимаю, но тебе, детка, придется подождать по крайней мере еще годика два-три.
Заглянул мне в глаза, а я их отвела.
— Вырастешь, может быть, и чертежницей станешь. Вот тогда встретимся, обязательно помогу.
Мы расстались.
Я пошла домой не оглядываясь. Прошла немного, а он меня догоняет:
— Ну, чего огорчилась? Давай попрощаемся. Запомни — моя фамилия Ионов!
Мы еще раз попрощались, на этот раз за руку.
вернулся Сергей. На этот раз я его ни о чем не расспрашивала, а первым делом показала свой Он посмотрел и сказал:
— Хорошо!
А переписчицей в штаб так и не устроил.
Долг-то Аде кто отдаст? Она будто и забыла, как купила мне ириски да махорку для мамы, а меня мучило: вдруг ей от Роди влетит?
Я поделилась с сестрой, все ей рассказала.
Лена долго не раздумывала. Достала бумагу, черный и красно-синий карандаш, ножницы и начала мастерить.
Я следила за ней. Несколькими движениями, приговаривая: «Точка, точка, запятая, минус — рожица кривая», выводила не «рожицы», а хорошенькие «личики».
— Вот это Тоська! Такая была она, когда еще волосы не постригла.
И действительно, получалась вылитая черноволосая, курчавая Тоська!
— А вот эта, смотри, — продолжала Лена, — наша святая. Сейчас запоет, узнаёшь?
Ну как не узнать — вылитая Вера Ефименко: волосы прилизаны, губки поджаты.
...Я заснула, а сестра всю ночь мастерила кукол. Из-под рук Лены выходили феи, и японки в кимоно, и просто девочки в коротких платьицах. Даже сделала из картона несколько чертиков: дернешь за ниточку — они поднимают руки и ноги.
На следующий день чертей и девчонок я повезла на Благбаз. Не зазывала покупателей, а только, без особой веры в успех, дергала чертика за ниточку.
Лена трудилась не зря. Я молчала, а бумажные куколки будто кричали за меня своими нарисованными ротиками. За каждую из них я получала, как за булочку «одноглотку». Люди смотрели на мой товар, улыбались, пожимали плечами, как-то снисходительно приценялись — и покупали.
Через несколько дней я полностью рассчиталась с Адой и маме принесла мешочек крепкого самосада.
Многие «купцы» стали располагаться рядом со мной. Ведь куклы веселили и продавцов и покупателей. Девчонки все время вертелись вокруг моей корзины. Военные и те заглядывались.
Бабка Наталка снабжала нас лоскутками. Но ни она, ни Тося за куклы не брались.
— С физиономиями не справимся! — говорила бабка.
Куклы же и чертики стали моей специальностью.
По вечерам мы их делали все вместе. Кукол мастерили не только из бумаги, но и из тряпок. Мать заготовляла туловища, руки и ноги, сшивала «красавиц» суровой ниткой; я шила платья, а Лена распускала старую веревку, расчесывала паклю и настоящими щипцами для завивки волос делала куклам всевозможные прически, рисовала лица.
...С осени я начала ходить в школу. Один день в школе, два дня на рынке; два дня в школе, день — на рынке. В школе не сиделось, все думала: «Товар пропадает»; на рынке беспокоилась: «А что задали?»
В школе бесплатно давали гороховый или чечевичный суп, или кусочек хлеба с повидлом. Придешь, схватишь миску супа или бутерброд, а учиться было некогда.
На Благбазе мне все время приходилось заниматься «арифметикой» — решать задачи, которые «на дом» не задавали. Продавала и тут же в уме выручку складывала — сложение; еду и курево покупала — вычитание; производила расчеты, как растянуть, чтобы на дольше хватило — деление. Только с умножением ничего не получалось.
Больше всего боялась, что кто-нибудь из школы встретит меня на рынке. Он закрывался в четыре часа. Пока я торговала, другие учились. Частое отсутствие я объясняла только одним:
— За матерью ухаживаю!
Сергей домой приходил редко. Но, когда случалось, что он несколько дней подряд гостил дома, школу я посещала аккуратно, говорила:
— Матери полегчало!
Приближались холода. Мать тщательно заклеила окна, приготовила для этого особо надежный клейстер. Тепло берегли.
Зимой я стала пропускать школу не только из-за Благ-база: классы не отапливались — занятия отменялись. Как-то нам объявили, что в школу будут пускать только тех, кто принесет с собой хоть одно полено. Бывало, идешь в школу, в одной руке сумка, а другой прижимаешь какую-нибудь дощечку.
Из пальто я выросла. Как ни натягивала рукава, как ни подбирала руки, а в ветреную стужу отморозила за-
пястья. Пришлось матери самым неподходящим, по новым сукном спешно удлинить рукава выношенного пальто.
В школе не раздевались. Посредине класса стояла круглая железная печь «буржуйка», но обогревала она только тех, кто сидел поближе. Бывало, и чернила замерзали. Сидим и на руки дуем. Когда же вдруг задымится «буржуйка», воздух в классе становился сизым и все учебники и тетради пахли дымом.
Один раз мы с Тосей пришли в класс раньше всех. Школьная нянечка пекла на накалившихся трубах «буржуйки» пресные лепешки. Она и нас угостила — одну лепешку на двоих.
Как-то и карандаши получили — по одному на три ученика. Мне нравилось огрызочком писать.
...Однажды объявили, что школа закрыта, так как «не отвечает гигиеническим условиям». Ищите другую школу!
Каких только не было тогда школ: платные, частные, с преподаванием танцев...
Тогда кто учился, кто нет. Многие не учились — учебников не было. Половина на половину. Я осталась среди тех, кто не учился.
Василь Игнатович устроил Тосю в школу «на самоокупаемости». Тося не хотела там учиться — далеко ходить. Василь Игнатович заставил и сам повел ее. Все говорил: «У меня теперь одна дочь, пусть человеком будет, а не звонарем-пономарем».
Я тоже не хотела быть пономарем, но верила, что в конце концов буду ходить не на Благбаз, а на службу. Старые школьные тетради я припрятала. Боялась, как бы мама не искурила. А она огорчалась: «Младшая останется недоучкой».
Услышав это, я перестала прятать тетради. Часто доставала их, перелистывала.
Тося приносила уроки. Задавали ей, а делали мы их вместе.
Как-то пришла она вся перемазанная глиной, даже ресницы не пощадила. Рассказала, что занимались они в классе «вольным трудом» по американской системе: из глины фигурки делали. Одну такую фигурку она захватила с собой. Трудно было понять, что это: оболтус, балерина или кирпич?
Мне же дома хватало «вольного труда» по маминой системе. И глина всегда была под рукой. То и дело приходилось замазывать щели в печке, иначе дымила.
Я не разрывалась больше между школой и куклами и не боялась, что останусь на второй год...
По вечерам делала не уроки, а ходкий «товар».
Не было керосина, и вместо лампы «молния» нам светил такой же каганец, как в хате у тети Христины.
Однажды, на тусклый огонек, воспользовавшись тем, что Екатерина Семеновна отправилась в гости в лото играть, зашла к нам Ада. Она удивилась:
— В темноте сидите?
— На керосин не заработали, — ответила мама.
Ада сейчас же вышла и через несколько минут вернулась с бутылкой керосина. Зажгли лампу, расселись вокруг стола, говорили кто о чем, только Ада беспокоилась, как бы Екатерина Семеновна не пришла раньше обычного из гостей.
После этого нет-нет улучит Ада минутку и притащит нам керосину.
— Черненькая, а как светлое солнышко,— говорила про нее мама.
При свете керосиновой лампы быстрей проходили зимние вечера...
Приближалось рождество, и куклы быстро раскупались для украшения елок.
Продавцы и покупатели переминались с ноги на ногу; торговки, чтобы согреться, плечами толкали друг друга. Только одна торговка на рынке не ежилась и не дула в замерзшие руки. Это была Мария Ивановна Желтикова.
На рынке она выглядела еще более важно, чем у себя дома в качалке. В пышной ротонде и меховом капоре, она чем-то напоминала Екатерину Великую на старых царских деньгах. Такую бумажку — «катеньку» пытался всучить мне один покупатель, притворявшийся дурачком.
Желтикова продавала кружева, порыжевшую, вытертую мантилью, веера, белые лайковые перчатки, черные бальные туфли с позолоченными пряжками. Тут же красовался будильник с музыкой. Время от времени Желтикова заводила музыку, чтобы привлечь покупателей к товару, разложенному у ее ног на коврике.
Коврик и будильник не продавались.
Прошло рождество, и я стала приходить домой с нераспроданными куклами. Благбаз напоминал не то малярию, не то возвратный тиф: то вскочит, то опустится температура.
Где-то задержались продовольственные маршруты, несколько дней ничего не выдавали по пайку, и цены полезли вверх.
С каждым днем все больше и больше на Благбазе было людей, которые только продавали и ничего не покупали.
Я торговала, торговала и проторговалась. В куклах и зима прошла.
А про весну помню, что была она очень голодная.
Однажды пришла Ада и попросила:
— Пойдем со мной на Благбаз. Родион Ефимович меня посылает. Сам сказал: «Возьми с собой Гальку».
Ада показала мне небольшой сверток. В тряпку была завернута каракулевая шкурка. Я попробовала раскрутить один завиток, но он опять закручивался.
Только еще открывались лабазы, на Благовещенском соборе ударил колокол, а мы уже были на базаре.
Не помню, какую цену назначил Родя за каракулевую шкурку, должно быть, это была сумма во много «лимонар-дов». Миллионы тогда называли «лимонами» или «лимонардами».
Солнце припекало. Ветер разносил базарную пыль. Попадет она в нос — и не прочихнешь!
Шкурка — товар не по сезону. Это не сахарин и не мазь для колес. Ада говорила, что, если она не продаст хоть одну шкурку, Родиона Ефимовича это сильно огорчит. Для себя же он бережет бобровый воротник с генеральской шинели. Он купил его у Желтиковой. Говорит, что такому воротнику и цены нет. Положит покупку на колени и поглаживает, как кота.
Благбаз шумел и надрывался. Одни шли туда с голода, другие — с жиру. Без зазрения совести сытые наживались на голодных.
Вдруг издали я увидела Родю. На нем был серый пиджак, помятые брюки.
Ада сказала, что как только она продаст эту шкурку, Родион Ефимович передаст ей другую. Надо показывать только кончик шкурки и произносить в полголоса, точно по секрету: «Пользуйтесь случаем, пользуйтесь случаем,
первосортная. Продаю только потому, что отца арестовали, он берег на воротник». Так учил Аду Родион Ефимович.
Только собрались мы «причитать», как потемнело и начался проливной дождь. Мы укрылись под крышей рынка.
Родя больше не показывался.
Старьевщик заметил шкурку, которую Ада прижимала к себе. Он, должно быть, обратил внимание, что «товар не по купцу», и тут же приценился.
Только Ада начала объяснять ему, что «эту шкурку ее отец берег себе на воротник», как кругом все загалдели, заглушая дождь, гремящий по крыше. Я сразу поняла: облава. Сейчас схватят всех, кто уклоняется от налога.
На нас смотрит милиционер. Если я побегу, он погонится за мной, а не за Адой.
— Прячь — ми-ли-ци-о-нер! — шепнула я Аде и побежала.
Милиционер за мной.
Я бежала под дождем, не обращая внимания на лужи: на мне были мои неизменные солдатские ботинки. Бежала и слышала, как по тем же лужам шлепал оторванной подошвой милиционер. Всю дорогу громко «чавкали» его сапоги.
Я сбавила бег. Милиционер схватил меня за руку:
— Что прячешь? Я тебя давно приметил, торгашка! Айда в милицию!
Милиционер выпустил руку. Я шла рядом и вспоминала, как шагала в ногу с отцом. Если бы он сейчас меня видел... Худо мне!
Милиционер привел меня в комнату, набитую людьми. Все с Благбаза.
Вот торговка, распевавшая арии о горячих пирожках с вишнями и о жареных пончиках. Когда ее забирали, она продолжала петь, изображая сумасшедшую. Тут же и благочинный старик. Рассказывали, что он то и дело попадает в тюрьму. Когда его выпускают, он на Благбазе торгует всем тем, что выманил у заключенных.
И я здесь, вместе с ними.
Меня допрашивали последней. Тот, кто допрашивал, сидел за столом. Милиционер, который бежал за мной по лужам, стоял рядом.
Я рассказала всю правду и о том, что торговала ириска-
ми и куклами; об Аде и ее «родителях» и о моей маме. Назвала свою фамилию и сообщила адрес.
Тот, кто меня допрашивал, и милиционер переглянулись.
После этого начальник что-то записал, а мне сказал:
— Иди, девочка, домой!
...В какой уж раз я давала себе зарок обходить Благбаз. Давно он мне опротивел. И бока натолкают, и за косу дергают. Кругом — обдиралы, аршинники, только и знают: «Дери-бери».
Но прошло несколько дней, и я снова с остатками «нераспроданного товара» оказалась на рынке. Вдруг, откуда ни возьмись, Тоська. Она вся дрожала от возмущения.
— Чего стоишь! — крикнула она мне и потянула за собой.
По дороге рассказала, что папиросники с Новоселовки затеяли драку. И не то что у мальчишек руки чесались подраться, а из-за барыша — проклятой конкуренции. Позавидовали Кольке Черепку, ведь он по всему Благбазу рысцой носился.
Когда мы прибежали, здоровенный парень уже сбил с ног маленького светловолосого Кольку. Колька поднялся, прямо посмотрел на обидчика и сказал: «Не смей», а тот ударил его прямо в глаз.
— На то и бью, заводная игрушка, чтоб больно было!— крикнул здоровенный. Но кто-то уже крепко схватил его сзади за оба локтя.
Кольку окружили, а потом куда-то понесли, говорили «к фельдшеру».
Я с ужасом посмотрела на Тосю. И она была перепугана.
Сергей не любил, когда Кольку дразнили «Черепком»; он называл его «самым маленьким солдатом». И этот «самый маленький солдат» так пострадал...
Все москалевские решили отомстить новоселовским за Черепка.
Под крики и свист так и сыпались удары, пинки, оплеухи.
Торговки бежали на даровое зрелище. И Желтикова, заграбастав свой товар, с узлом в руке, протиснулась вперед, чтобы лучше видеть. Широкая грудь поднималась и опускалась.
— Не загораживайте мне вид на баталию! Дикари! Дикари! — повторяла она.
Мальчишки с ожесточением лупили друг друга:
— Так, так ему по окаянной шее!
— Ты вдарь его под ребро! Москалевские с трудом отбивали натиск.
Ух, и достанется же сейчас нашим ребятам! Не пристало отступать Москалевке и Газовой!
У Тоси глаза налились гневом. Разгорелась моя подруга, подалась вперед всем туловищем и ринулась в атаку. Я бросилась за ней.
Незнакомый старичок крикнул нам вслед:
— Куда вы, заедут вам в «зубной переулок»!
Но Тосю уже не остановить. Разъяренная, с мальчишеской ловкостью, схватила она какого-то новоселовского папиросника за оттопыренные уши...
— Ах ты, обгорелая головешка! — заорал парень. Меня кто-то тянул за косу, а я держалась за чей-то
воротник, стараясь не упасть. Казалось, гуси шипят, кусают, крыльями машут, а у меня в руках нет хворостины.
Рванулась набок, локтем попала какому-то мальчишке в нос, и коса освободилась. Вдруг увидела Аду! В глазах слезы. Кто-то стукнул ее в лицо.
Я ринулась к ней. В это время мне угодили камнем в голову. Будто раздался колокольный перезвон. Схватилась за голову — мокрая рука, волосы слиплись, кровь на руке. Качает из стороны в сторону, голова кружится. Тоська рядом, уже не дерется, а царапается. Со слезами на глазах она яростно вцепилась парню в волосы и давай его «возить»...
Раздались выстрелы.
Подоспевшие милиционеры стреляли в воздух.
Кто-то крепко схватил меня за руку. Я обернулась: Олеся! Рядом с ней Ада — держится за нос, волосы растрепаны, торчат во все стороны.
— Что вы, с ума сошли?!
— Черепка подбили! — крикнула Тося. Но и ее уже крепко держала Олеся за руку: — Посмотрите, на кого вы похожи! Милиционеры с трудом разводили дерущихся. Один из милиционеров сказал:
— Ну и деточки, не уймешь!
Я посмотрела на его сапоги: нет, не он. У этого сапоги целые, новые.
Олеся привела нас к себе. Она уложила Аду на кровать и стала прикладывать свинцовую примочку к носу и к губам. Бабка Наталка, кряхтя и охая, принесла какую-то настойку.
— Из ведра бы вас всех холодной водой,— ворчала она и сердито смотрела на Тосино разорванное платье.
Тося протирала мне волосы мокрым полотенцем, продолжая грозиться:
— Если Черепок ослепнет, я им глаза выцарапаю! Ада что-то хотела сказать, но не сказала. Поднялась, поцеловала Олесю и выбежала из комнаты.
Олеся опустилась на кровать, обняла руками колени, внимательно, долгим взглядом посмотрела на меня, на Тосю и сказала:
— Что нам с вами делать, дорогие пролетарские дети?
Девчонок и мальчишек с нашей улицы собрала Олеся.
Она работала в женотделе Основяно-Холодногорского райкома партии. Ее так и называли: «Олеся-женотдель-щица».
— Довольно вам шляться по улицам! Гонять без конца и краю, — громко начала Олеся. — Пора и за дело взяться. Устроим платный спектакль. Сбор пойдет на хлеб голодающим Поволжья.
Мы и раньше любили шарады разыгрывать, переодеваться, играть на деревянных ложках и бутылках, но и думать не могли, что будем представлять, как настоящие артисты, а взрослые будут платить деньги за наше представление.
За несколько дней неузнаваемо преобразился двор Ефименко.
Василь Игнатович провел электрический провод к помосту, сколоченному у стены соседнего двора. Устроить помост помогал мальчишкам отец Кольки, литейщик Черепков — дядя Саша. Он вырыл ямы, вбил столбы и двумя-
тремя «заходами» принес на плечах чуть ли не все доски для будущей сцены. Про него говорили, что он расправляет подковы, каждой рукой поднимает с земли пятипудовые мешки и несет их на весу, не сгибаясь.
К будущему спектаклю Олеся привлекла ребят не только с нашей улицы.
У одной девчонки глаза были серо-голубые, будто отражали глубокое синее небо с наплывающими облаками; ее лицо покрылось золотистым загаром, а вздернутый кончик носа краснел как вишенка.
Только произнесла она несколько слов звонким голосом, как я вздрогнула — какой знакомый голос! — и сразу вспомнила курносую девчонку, как распевала она на Благбазе: «Жорж Борман! Жорж Борман!»
Оказалось, что живет она на Владимирской, зовут ее Люба, по фамилии Одоленко.
Как-то раз проходила Олеся по Владимирской, у открытого окна одного дома собрались прохожие. И Олеся остановилась. Из окна раздавался звучный, прозрачный голос. Это пела Люба Сдоленко.
Дед Любы всю свою жизнь проработал в железнодорожном депо: ремонтировал паровозы. Был он мастером на все руки: в Управлении железных дорог починил стенные часы, от которых отказывались часовщики; затеряли ключи от несгораемой кассы, а он открыл ее.
После, когда я подружилась с Любой и стала бывать у Одоленко, всегда заставала Любиного деда за работой: то он что-то мастерит за маленьким станочком, то на куске рельса чинит обувь, то часы разбирает. Мастерит, мастерит, а потом как запоет!..
Знал он много солдатских и старинных песен. От деда и Люба унаследовала любовь к пению.
Когда во двор решительно вошел глазастый паренек, Олеся обрадовалась и протянула ему руку:
— Хорошо, что пришел. Знакомьтесь, Илья!
Илья Пахман, младший сын старого наборщика, жил от нас за несколько кварталов. Ходил он в курточке, перешитой из отцовской одежды, о чем свидетельствовали пятна типографской краски. Эта курточка из чертовой кожи, с четырьмя карманами, была наподобие френча и застегивалась на большие черные пуговицы. Такими же черными были и глаза Ильи.
По каждому поводу Илья Пахман произносил пламенную речь с броскими словами.
К первому представлению мы готовились, как к празднику. Из простынь соорудили настоящий занавес.
Много было споров о том, какую выбрать пьесу. Голоса разделились: одни хотели ставить «Сашу-большевика», другим понравился «Заколдованный пирог, или Кто не работает, тот не ест».
В обеих пьесах были роли буржуев и буржуек, но никто из ребят не хотел исполнять «буржуйские» роли.
Кто-то из мальчишек предложил поставить «Робинзон на необитаемом острове». Против «Робинзона» никто не возражал. Но в этой пьесе было только две роли, и то для мальчишек. Остальные должны были изображать толпу или «стихию» за сценой.
Зато в афише было выведено: «Дивертисмент». Это должно было привлечь публику.
Когда речь зашла о дивертисменте, слово взял Илюша Пахман. Он сказал, что мы должны показать пролетарский подъем, а не «балетное дрыганье». Девчонки его уверяли, что плясать будут с жаром.
Кто же исполнит роль Робинзона? Не было среди наших мальчишек такого подходящего «путешественника».
Трудно было определить на вид, сколько лет Митьке Рогачеву, по прозвищу «Рогач». Был он и длинноногим и длинноруким; даже лицо продолговатое. Большой рыжий чуб постоянно свисал на лоб. Веснушки обрызгали все лицо, расползлись по шее и по рукам. К тому же он краснел до ушей и в такие минуты казался огненным. Даже если напялить на него черный парик, будет казаться, что Митино лицо горит, а голова уже обуглилась.
Мы долго спорили, какого цвета были волосы и борода у Робинзона. Всем хотелось, чтобы именно Рогач выступил в заглавной роли.
Он был знаменит на всю Москалевку. В школе любил карандаши в руках вертеть и зубами их грызть. Начал однажды карандашиком во рту играть, втягивать и выдувать — туда-сюда! — да и глотнул нечаянно. Всех переполошил. Чуть не подавился. Врач успокоил, сказал, что карандаш выйдет, надо только следить. Но карандаш не выходил.
Зато Митька прославился...
Рослый Митька Рогачев все хотел прибавить себе несколько годков, чтобы устроиться на какую-нибудь работу, но, как говорил, всюду ему «шиш показывали».
Не повезло ему и с Робинзоном. Только произнес он под суфлера несколько слов, как всем тоскливо стало. Разве это Робинзон? Каждое слово растягивает на полчаса, вот-вот зевать начнет. Такой Робинзон ничего бы себе и не выстроил — в час по столовой ложке.
Илья Пахман тоже не подходит — худой, тщедушный, так и сдует его морским ветром. Нет, уж быть ему лучше суфлером: и незаметен, и шепчет громко.
Олеся посоветовала пригласить на роль Робинзона «гастролера» — комсомольца Павлика Чеботаря — ученика слесаря с завода Дитмара. Он не нуждался в парике, так как давно не был в парикмахерской и обходился без гребешка. А бороду приклеить можно.
Наша труппа пополнилась еще одним лохматым «актером». Как же обойтись без Султана, когда в ужасную ночь кораблекрушения вместе с Робинзоном спаслась и собака.
Мы превратили будку Султана в грот Робинзона, поставив ее на пеньки. Во время репетиции пес добродушно прогуливался по сцене, терся мордой о ноги Робинзона, а когда исполнялась пляска дикарей, неистово лаял.
Султан не обращал внимания на суфлера, но слушался Андрейку. Андрейка стал суфлером для Султана. По его знаку пес лез в будку, переставал лаять.
Ребята притащили высокую пальму в кадушке и кактусы. Богатая тропическая растительность! Разбросали по сцене лопаты, глиняные горшки, положили топор. Труба самоварная стала подзорной.
В пьесе я исполняла роль то «ветра», то «дикаря», но, засыпая, без конца повторяла и роль Робинзона, и его друга Пятницы.
Но без Митьки Рогачева все-таки не обошлось. По роману Дефо черноволосый Пятница был и смугл и круглолиц. Мы же с этим не посчитались и дали роль Пятницы Рогачеву. Под жарким солнцем Пятница так же мог быть веснушчатым. А рыжие волосы можно укрыть. Зато Рогач высок и нескладен, вполне похож на бывшего дикаря. Митька, когда учил роль Робинзона, заикался, тянул
в час по столовой ложке, а Пятница пришелся ему по душе.
— Мой не понимай? — очень забавно у него получалось.
Войдя в роль, он произносил совсем непонятные, смешные слова, которых не было в тексте, и уверял, что это не отсебятина, а именно так, по его мнению, разговаривал Пятница. Митька весело похлопывал себя по бокам и приговаривал:
— Мейн кармано оне монете!
Наконец настал долгожданный день. На заборе красовалась большая афиша. У ворот сидел кассир, продавал билеты и программки.
Сбор был полный. Мест не хватало. На многих табуретках сидели по два человека.
Василь Игнатович привел под руку бабку Наталку. Он то снимал, то надевал на нос очки в оловянной оправе, долго протирал их, чтобы лучше видеть. Представление не началось, а он уже смотрел на сцену, чуть вытянув шею.
С краю на лавку присел Николай Каллистратович Одоленко, дед Любы. Поверх белой косоворотки он надел черный жилет. Свои большие руки держал на коленях. Сухой и жилистый, волосы носил бобриком, усов и бороды не признавал.
Некоторые зрители пришли со стульями.
Мы отыскали дырочки в старых простынях занавеса и наперебой смотрели со сцены в «зрительный зал».
Сзади всех, в последнем ряду, устроилась моя мама.
«Ее бы посадить в первый ряд, чтобы лучше видела»,— подумала я. Хотела выбежать к ней, пересадить, но Олеся зорко следила, чтобы никто из «артистов» не выбегал.
Еще спектакль не начался, а Павлик Чеботарь, в длинном диковинном облачении, с зонтиком из старой клеенки, уже чувствовал себя на необитаемом острове. Своей пятерней он задумчиво зачесывал назад длинные волосы, поднимал руки и лицо вверх, как будто разговаривал с небом...
На дворе потухла двухсотсвечовая лампа, а маленькие лампочки загорелись на сцене.
Раздвинулся занавес.
Робинзон смотрел в подзорную трубу, мастерил стулья, а мы за сценой с невероятным усердием производили гром, изображали то бурю, то диких зверей, стучали ногами,
грохотали, выли и рычали даже больше, чем это требовалось по ходу пьесы.
За бумажного попугая, качавшегося в деревянном обруче на пальме, Коля Черепок кричал гортанным голосом:
— Робин, Робин Крузо, бедный Робин Крузо! Где ты, Робин Крузо? Где ты? Где ты был?
Те же слова громко и с увлечением шептал суфлер и этим только усиливал эффект, будто эхо вторило голосу попугая.
С восторгом встретили зрители появление Пятницы в белой чалме на голове. В самый разгар действия чалма развернулась, став обыкновенным полотенцем с вышивкой. Но Рогач не растерялся и снова превратил полотенце в чалму.
Под конец пьесы все мы, украшенные перьями разных птиц и даже страусовыми, выдернутыми из оставленной шляпы мадам Аничкиной, с воодушевлением изображали дикарей.
Занавес задернулся под гром аплодисментов. Эту обязанность ловко выполнил суфлер, прятавшийся в складках занавеса.
Кто-то крикнул:
— А что еще будет?
Мы дружно, в один голос, ответили:
— Ди-вер-ти-смент!
Во время антракта музыканты шумно размещались на сцене. Тут были балалайки, гитары, мандолины, бутылки, медный таз для варенья, деревянные ложки...
Отец Черепка во время представления сидел в окружении всего своего семейства. На руках он держал самую маленькую. Дядя Саша осторожно переложил уснувшую малышку на руки бабки Наталки, а сам направился к сцене, где на табуретке лежала его балалайка. Он был солистом нашего оркестра, и многие специально пришли послушать, как дядя Саша будет играть на балалайке.
Дивертисмент начался с марша, исполненного всем оркестром.
Казалось, что дядя Саша с первых же взмахов раздавит балалайку. Она была как пушинка в его громадных и длинных руках. Но из этой «пушинки» балалаечник извлекал великое множество звуков.
Потом появились два артиста-куплетиста, наши местные Пат и Паташон — Рогач и Черепок:
Капуста моя, широкие листья!
Отворяйтесь ворота —
едут два артиста!
Шубы рваны, без карманов, без подметок сапоги!
После каждого куплета они выбивали чечетку. Люба Одоленко пела старинную русскую песню:
Не шей ты мне, матушка,
Красный сарафан, Не вводи, родимая,
Попусту в изъян! Рано мою косыньку
На две расплетать. Прикажи мне русую
В ленты убирать!
Когда кончилась песня, восторженные слушатели не могли опомниться. И только придя в себя, начали дружно хлопать в ладоши. Хлопали и музыканты со сцены.
Дядя Саша кричал:
— Ай да Любка, золотое сердце! Запузыривает, как настоящая певица!
Много раз выходила Люба, неловко раскланиваясь.
Под конец дивертисмента девчонки вихрем кружились по сцене. На Тосе было ярко-красное платьице из марли. Гибкая, шустрая, она носилась по сцене как огонек.
Дивертисмент окончился, занавес закрылся, а публика не расходилась. Заговорили все разом.
Мама моя подошла к бабке Наталке:
— Откуда у твоей внучки такая прыть взялась?
— Вся в меня! — обрадовалась бабка и тут же лихо топнула ногой. Она бы в пляс пустилась, да негде, скамейки кругом и спящий малыш на руках.
Василь Игнатович преградил дорогу деду Одоленко:
— Ну и Любка твоя, заткнула за пояс мою Верку! Счастливые, мы благодарили Олесю, будто это хлопали не нам, а именно ей — за выдумку, за настойчивость.
На следующий день, с утра, мы снова собрались на дворе у Ефименко. Уже не играли на балалайках, на ложках, не гудели в папиросную бумагу, а взялись за метлы, веники и совки. Дружно вымели целые горы шелухи подсолнечных и тыквенных семечек.
С тех пор прошло немало, но тот день, самый будничный и ничем не отмеченный в календаре, — как свет большого огня.
Пришлось нам выступать и на настоящей сцене. Нашими зрителями были взрослые; они остались в зале после районного партийного собрания на «художественную часть». Очень смеялись и много нам хлопали, особенно когда у Павлика — Робинзона вдруг отклеилась борода.
Кончилось представление. Из зала еще доносились гул, хлопки, отдельные возгласы, а потом все стихло.
Я подошла к рампе, чуть раздвинула занавес и взглянула в только что опустевший, полутемный зал. Тишина какая-то особенная, непривычная. Казалось, что с пустых рядов стульев смотрят на тебя те, кто придут сюда завтра.
Олеся велела ее подождать. Мы еще не сняли с себя страусовые перья и не успели смыть следы грима, нанесенного углем и красящей бумагой, как она вышла из-за кулис. Необыкновенно красивая, радостная, остановилась, на всех посмотрела и начала говорить. Она опять назвала нас пролетарскими детьми и сказала, что уличная рабочая детвора должна объединиться под коммунистическим знаменем и смело пойти по дороге своих отцов и старших братьев.
Как мы обрадовались! Ведь давно мечтали стать комсомолистами — так тогда называли комсомольцев. Хотели поскорей вырасти.
Олеся рассказала, что в Москве революционные дети уже зажгли свой костер и стали пионерами. Пионеры — это те, кто открывают новое и побеждают трудности.
Величайшим героем древности был Спартак. Две тысячи лет тому назад он поднял в Италии восстание рабов-гладиаторов против тиранов и кровопийц.
Олеся рассказала нам, что, когда в Германии вспыхнула революция, рабочие-коммунисты, боровшиеся на баррикадах Берлина, стали называть себя именем Спартака, ибо Спартак воплощает сердце и волю всех отважных.
С такой же неукротимой отвагой, с мужеством должны мы, маленькие харьковчане, защищать родную советскую власть, бороться за свободу и справедливость.
И тут же Олеся спросила: кто из нас хочет записаться в юные Спартаки?
Я подошла к Олесе и сказала:
— Хочу быть Спартаком! Только и слышно было:
— Запишите меня!
— И меня тоже!
Сразу же записались и Тося, и Люба, и Коля Черепков, и другие наши «артисты».
А Илья Пахман был записан у Олеси раньше нас всех. Оказывается, Олеся несколько дней тому назад дала ему прочитать книгу о Спартаке.
Олеся ушла, а Илья долго и подробно рассказывал нам все, что запомнил. В последнем бою Спартак бился один с сотнями врагов, бился, как подобает герою, и погиб как герой. Верные гладиаторы вынесли его труп с поля сражения и положили останки вождя на телегу, запряженную двумя волами.
Слушала я Илью и видела: движется телега по дороге; серые круторогие волы идут медленно, тяжело ступают. В чистом поле погоняет их ветер. Будто произошло все это не две тысячи лет тому назад и не под Римом, а совсем недавно, на земле Украины.
...Я никак не могла заснуть. И подушку переворачивала, и считала до ста, до двухсот; не помог и испытанный способ: «Один верблюд шел по пустыне, два верблюда шли по пустыне...»
Всех верблюдов вытеснил из моей головы мужественный и неукротимый человек. Как это раньше я о нем ничего не знала, ничего не слыхала?
Я слышу его страстный голос. Он доносится на Газовую из тьмы веков:
— Солнце сияет для всех!
Как же заснуть и ничего не сказать маме? И я ведь не сразу все запомнила и поняла. Как бы самой прочесть эту книгу. Олеся получила ее всего на несколько дней. Сейчас ее читают счастливчики.
— Что с тобой, Галонька? — раздался в темноте тревожный голос мамы.
Я соскочила и перебралась к маме. Она приложила руку к моему лбу:
— Не заболела ли, помилуй бог, щеки-то как горят. Может, съела что несвежее? Ничего не болит?
«Болит, болит»! — разве это то слово?
— Слушай, мама: две тысячи лет тому назад в Риме жил Спартак. Он был гладиатором!
Мать перепугалась не на шутку:
- Какой Спартак? Что за... диатор? Это новую пьесу играть будете?
Мать поднялась, зажгла лампу, а я села на кровать.
- Мама, ты только слушай.
И я рассказала все, что узнала о Спартаке.
— Видать, хороший человек был, — сказала мама. — Ну, а ты при чем? Комсомолисткой станешь, как Сергей? Ну, а он, твой Спартак, в бога верил?
Я не знала, что и ответить. И почему-то сказала маме:
— Он сам был, как бог.
— Ну, ну, будет тебе. Сомкни глаза и засни. А меня в твои Спартаки примут? — вдруг ласково спросила мама.
— Нет, не примут.
— Почему же?
— Ты, мама, куришь. Курящих в Спартаки не принимают.
И вот настал день, когда нас должны были принять в Спартаки.
По случаю торжества мать хотела, чтобы я выглядела нарядней: вымыла мне голову, заплела косу, а из мешочка достала сережки. Бриллиантовые они или стеклянные, а все-таки красивые.
Платья сестры я давно сносила, из других выросла. Единственным платьем по мне было то, которое сама сшила из старого черного зонтика и розового тика, снятого с подушки: черная спинка, розовая грудь, рукава из зонтика, юбка из наволочки.
— Хороша! — сказала мама.
Все было бы ладно, если бы не Илья Пахман. Он увидел меня и фыркнул:
— Ничего себе, будущая спартаковка! Пришла с бирюльками в ушах. Протестую! Увидит тебя Чеботарь, сразу возьмет обратно свою рекомендацию.
— Ну, что кипишь? — сказала Олеся и подошла к Пах-ману.
— Буржуазные побрякушки позорят знамя Спартака! — отрубил Пахман.
Меня выручила Тося: как могла, рассказала историю сережек и совсем некстати поведала, что я умею работать на аппарате Морзе.
Я с трудом удержалась, чтобы не заплакать. Сняла сережки и сунула их в карман.
Сад завода шахтерских ламп был небольшой; мало в нем тени и цветов. Было тихо, безветренно. Из мастерских доносился лязг, вздохи пара... Я все смотрела и смотрела, как в большом окне вертелись приводные ремни.
Под деревом акации стоял стол, накрытый красным кумачом.
Мы ждали знаменитого человека — он проработал кузнецом пятьдесят пять лет. Когда он появился в саду, Павлик Чеботарь пошел ему навстречу, хотел взять под руку, а рослый, плечистый старик сам схватил Чеботаря под локоть, повел его и, улыбаясь, усадил за стол.
Олеся расстегнула ворот гимнастерки и начала говорить:
— Имя Спартака священно для всех борющихся за свободу. Это имя внушает ужас всем богачам поработителям. Носите же с честью славное имя! Миллионы детей еще голодают. Миллионы детей еще в рабстве. Подражать Спартаку — это значит бороться за победу рабочих всего мира!
Чеботарь читал нам «Законы Юного Спартака». А мы стоя их повторяли:
— Клянемся быть верными советской власти. Мы обещаем стать полезными гражданами Республики Советов!
Только отзвучали наши голоса, поднялся седовласый кузнец. Он внимательно оглядел нас всех, стал очень серьезным, потом вдруг сконфуженно ухмыльнулся и передохнул.
У него чуть дрожали огромные руки.
Ну, — подумала я, — сейчас начнет говорить.
— Вперед, ребята!

Да как ударит кулаком по столу, даже графин задребезжал.
На этом и закончил свою речь.
И паровоз на путях за заводом, сам того не ведая, приветствовал нас гудком.
Мы стали юными Спартаками, стали пионерами.
Дома меня поджидала мама, Сергей и шулики — шу-лики по случаю торжества. Самая любимая наша еда — хрустящие коржи, залитые маковым молоком.
— Сергей, я теперь не только твоя сестра, но и твой младший брат, юный Спартак — товарищ каждому коммунисту и рабочему, — сказала я брату.
Он обрадовался:
— Всю жизнь мечтал о брате! Молодец, Степка! «Степка» в устах Сергея было высшей похвалой. Вдруг мать всплеснула руками:
— А серьги твои где?
Я про них и забыла. Вспомнила нашего суфлера и уверенно произнесла:
— Это, мама, буржуазные побрякушки. Мать даже присела от удивления.
Сергей тоже подтвердил, что спартаковке не следует носить серьги.
Я с облегчением положила их в ящик комода.
Мать знала, что Спартак жил давным-давно, а все же спросила:
— Как Спартака величать по отчеству?
— Просто Спартак! — ответила я маме.
В Харькове для юных спартаковцев была выпущена на серой, но плотной бумаге открытка: «Спартак призывает к восстанию!»
Мать повесила эту открытку на стене, украсив ее желтыми бессмертниками.
Как всегда, не повезло Митьке Рогачеву.
— Мне мамка голову пробила за то, что я к юным Спартакам записался.
— Что-то дырки не видно, — заметила Тоська.
— А ты смотри лучше.
Мы исследовали голову Митьки и действительно обнаружили шишку.
— Она меня дразнит: «Шпартак без порток», щенком и сопляком называла. А я все равно Спартаком останусь. Так и сказал ей: «У тебя твои боги, а у меня свои». Ну еще раз набьет, потом привыкнет, — утешал себя Ро-гачев.
Тосе было это совсем непонятно. Записалась она в Спартаки и еще крепче сдружилась с отцом. Будто было у нее две подруги: одна с косой, другая — с небритым подбородком.
Когда бабка Наталка начинала распекать Василь Игнатовича, он всегда искал защиты у дочери.
— Фу ты, спутанный волос, не знает, с какой ноги встала. Скажи ей, Тося!
Илья Пахман о себе не рассказывал.
Мать его была верующая, молилась в синагоге, мечтала отпраздновать тринадцатилетие сына, а он повесил над кроватью портрет коммунистки Коллонтай, стал безбожником, каким-то Спартаком.
«На кого он молится?» — недоумевала мать.
Отец Ильи говорил, что еще не очень уверен в том, что на небе нет бога, но раз мать переживает, Илья должен ее пожалеть.
Сгоряча мать прокляла Илью и выгнала из дому.
Когда темнело, Илья шел на вокзал. Там, приютившись на скамейке, сочинял он поэму. Ночью всех выгоняли с вокзала, и Илья забирался в поезд, стоявший в тупике. Вагон кишел беспризорными. Вместе с ними бежал Илья, когда однажды началась облава. Остаток ночи он провел в афишной будке, где прочитал новым товарищам начало своей поэмы, за что был награжден хлебом и сушеной воблой. Утром снова пришел к нам.
Обо всем этом мы узнали после того, как беспокойная мать Ильи решила разыскать и вернуть сына.
Около нас, на углу Москалевки и Заиковской, открылась спортивная площадка имени рано умершего комсомольца-журналиста Леонида Балабанова.
Детские коммунистические группы начинали свою жизнь не при школах, а при заводах, клубах и детдомах — там, где жили дети городских тружеников. Группы были
разбиты на звенья. Каждое звено выбирало себе самое красивое революционное название: «Мы мировой пожар раздуем», «Труд», «Серп»... Наше звено называлось: «Мы — кузнецы».
На площадке Балабанова мы репетировали «живую пирамиду». На ее вершине поочередно заменяли друг друга Илья Пахман и Николай Черепков.
Черный френчик Ильи лежал на земле, а он, бледный и усталый, расставив руки, с трудом соблюдал равновесие.
Мать Пахмана вбежала на площадку. Сразу рухнула «пирамида».
Мать обняла Илью, и он долго не мог вырваться из ее объятий. Она ласкала сына и приговаривала:
— Ты же меня не так понял. Я тебе ничего не сказала. Я только подумала, что детям не надо вмешиваться в политику. Пусть себе взрослые ломают голову...
— Мама! — строго произнес Илья, надевая черный френчик со стоячим воротником.
— А вы тоже Спартаки? — спросила она нас, девчонок.
— Конечно! — хором ответили мы.
— Ой, какие хорошенькие девочки, как куклы, и уже не хотите играть в куклы!
— Мама, сейчас мы очень заняты. Вечером я приду домой,— начал Илья.
Но тут вмешался Павлик Чеботарь:
— Мамаша, накормите Илью и дайте ему как следует выспаться. Ваш Илья—пролетарский поэт Илья Голодный!
Илья вернулся домой как победитель. ...Бывало, идешь по Газовой, а сзади слышишь, как доносится с лавочек:
— Мелюзга, а куда лезет!
— Голоштанники, ячейкины дети!
— Спартаки глаза мозолят.
— Босые, а поют: «Мы свой, мы новый мир построим». Даже Вера Ефименко, встретив сестру-спартаковку, не
удержалась от насмешки:
— Жалованье вам платят?
Родя и Котя будто перестали замечать не только меня, но и маму. К Лене же Котя относилась благосклонно: хвалила ее за то, что она разбирается в фасонах и носит шляпки. Сестра сама их мастерила. Была у нее и соломенная, и широкополая, и цветастая. А однажды она изрезала
серые суконные обмотки Сергея — сшила из них шляпку-панамку.
Котя зазывала Лену к себе и хвастала перед ней новыми приобретениями: креслами, обитыми красным плюшем, столиком — в карты играть...
Придет сестра от Клепцовых и тут же руками и ногами показывает, как они «на широкую ногу живут». Напускала на себя непроницаемый вид, ступала веско, размеренно «по коврам» и принимала картинные позы, рассчитанные на эффект. Потом вдруг пугливо посматривала в окно... Ну и впрямь Котя — Екатерина Семеновна!
Клепцовы стали тщательно задергивать занавески, когда садились обедать. Принимая гостей, отодвигали большой стол подальше от окон. Говорили, что в Аде они души не чают: обшивают ее, на дом к ней приходит француженка. Когда у Клепцовых бывают гости, Ада декламирует стихотворения по-французски.
У них в доме появилась горничная — дородная женщина с белой наколкой на голове. Мне она казалась королевой. Котя хвасталась, что раньше эта женщина служила в самых богатых домах и все порядки знает. По утрам подает ей кофе на подносе прямо в постель. На стол накрывает «как у Катыков». Были такие табачные фабриканты. Для вызова горничной Котя завела колокольчик — тоже «как у Катыков».
Я только мельком видела Аду. Клепцовы переселили ее в другой свой двухэтажный дом, который они сдавали богатым квартирантам. Жил там адвокат, какой-то Родин компаньон, и дальняя родственница Коти. К ней и поместили Аду.
Родя и Котя хвастались тем, что этот доходный двухэтажный дом они «отписали» Аде: «Замуж еще не вышла, а приданое получила!»
И все же как-то днем Ада пришла к нам. Она обрадовалась, что застала меня. Оказывается, у Коти большое несчастье: объелся и сдох кот Бантик, она поехала хоронить его. Этим и воспользовалась Ада.
Ада жадно расспрашивала про спартаковскую жизнь. Я рассказала, как ездили мы в Зоологический музей, где видели чучело бегемота, за стеклянными ширмочками — разных букашек, а на орхидее — гнездышко с маленькой птичкой колибри...
Я посоветовала Аде сходить в Зоологический посмотреть на тропических бабочек, на макет в лесу». Но Ада сказала, что одной ходить неинтересно. Хотела я ей рассказать о том, как мы ездили на паровозостроительный завод, где огромные молоты бьют и выравнивают куски раскаленного железа, во все стороны летят огромные искры — стоять рядом и то жарко! — но осеклась: своими рассказами я ее только расстраивала.
Даже если бы и хотела — обо всем не рассказать.
Маленькие политические деятели, мы чрезмерно увлекались собраниями, конференциями, съездами, постановлениями и резолюциями. Все как у взрослых, все как у детдомовцев старых детских домов!
В детских домах были самые дружные спартаковские ячейки, спартаковские вожаки, поэты и музыканты, докладчики о международном положении и новом быте. Гудят детские ульи! Протянуты на ниточках цветные флажки. Спальни украшены бумажными розами. Чисто застелены кровати. На стенах портреты вождей, рисунки, диаграммы, очень много диаграмм — кубы, столбики, а на рисунках цветы, звезды и фабричные трубы... У всех детдомовцев какие-то таланты. Рисуют, лепят без устали. Мальчишки швабрами натирают пол.
Гремят железные миски, в мисках пшенный кулеш, чечевица; зато всегда в детдоме репетиции, спевки, просмотры кинокартин. Детдомовцы любили поговорить и поспорить, устраивали яростные диспуты, агитпоходы «за околицу» по ближайшим селам. Идут детдомовцы. Открытые лица. Шагают и поют. Так поют, что за сердце хватает. А люди со стороны смотрят, прислушиваются. Кто скажет: «На приютских не похожи», «Удивительные ребята». Другие же злобно бурчат: «Тоже оратели! Кухаркины дети!»
Мы любили ходить в гости к детдомовцам: там всегда праздник и все по-мировому!
...А я тогда вела протоколы. Недаром брат хотел, чтобы стала я переписчицей в штабе. Писала старательно, а ребята кричали как грачи. Я ждала момента, когда у председателя наконец лопнет терпение и он обязательно начнет, стуча кулаком по столу, призывать: «К порядочку, к порядочку!»
Мы «ставили на вид» и «строго предупреждали» тех,
кто держал руки в карманах или обозвал своего же товарища «идиотом в квадрате».
Хоть и с неохотой, а все же единогласно признали мы, что не следует спартаковцам грызть семечки и загрязнять улицы шелухой...
Прикрепленный к звену «Мы — кузнецы» комсомолец Павлик Чеботарь всегда говорил о том, что для Спартаков дисциплина превыше всего. Спартак должен быть предан своей организации душой и телом.
Коля Черепков был предан, а на собрания опаздывал. И отговорки у него были одни и те же: «Отец поздно с работы пришел, не на кого было моих оставить», «братик обмарался», «сестра разревелась», «каша подгорела»... Сколько раз я записывала в протокол: «Николаю Черепкову поставить на вид».
Однажды он явился, когда мы собирались расходиться. Как накинулся на него Павлик Чеботарь:
— Спартак никогда не должен опаздывать! Тот не Спартак, кто время теряет даром! Почему опоздал?!
Коля ничего не ответил.
Илья Пахман предложил поместить Черепкова на черную доску. А я за него заступилась:
— Так уж сразу на черную! Попробуем сначала на доску, где вывешиваем стихи, рисунки, протоколы... Нарисовал же Черепков карикатуру на своего друга Рогачева. На всю доску изобразил его лохматую голову и длинные руки в чернилах. И тут же надпись: «Тот не Спартак, кто вечно грязен». Пусть Черепков нарисует карикатуру сам на себя.
Прошло мое предложение.
Коля Черепок нарисовал себя. Как вылитый! Держится за ручку двери, а малыши тянут его назад. И подписал автокарикатуру с особым уважением к своей личности: «Председатель Лиги времени Н.А.Черепков».
Черепков любил рисовать. Он писал лозунги на красной материи. Для украшения клуба цветными карандашами изобразил юного Спартака в буденовке. А на собраниях скучал, даже когда и приходил вовремя.
Обсуждали мы вопрос о том, что надо нам теснее связаться с юными Спартаками других районов, больше дружить со звеном «Мы мировой пожар раздуем», а Черепок смотрел в окно, о чем-то задумался.
Я писала протокол, а он толкнул и прошептал:
— Галка, в цурочки сыграем, кто кого помает... ...Павел Чеботарь созвал нас для важного разговора.
— Довольно нам глядеть на мир глазами бабушек и тетушек, не взрыхленных комсомольским плугом! — сказал он твердо.
Мы даже рты открыли, а он продолжал:
— Довольно юным Спартакам носить старые имена, которыми нарекли нас попы по святцам. Налил поп куме и куму по рюмочке, и стал я Павлом. Отрекаюсь от старого мещанского быта и не желаю носить старое религиозное имя. Зовите меня Ревмир! — произнес он торжественно.
В группе Леонида Балабанова все Спартаки переменили церковные имена на революционные, а мы все еще продолжали носить имена разных святых и угодников.
Я так и записала в протокол: «Всем переименоваться. Объявить конкурс на лучшее революционное имя».
Не только комсомольцы и юные Спартаки, но и наш революционный город менял устаревшие названия улиц: Святодуховская стала Пролетарской, Семинарская — имени Володарского, Епархиальная — улицей Артема, Монастырская — улицей Спартака, а Монастырский переулок — Спартаковским. Там был открыт магазин «Юный Спартак».
Завод рудничных ламп стал называться «Свет шахтера».
Я задумалась: как же расстаться с «Галиной»?
Знала я, что по святцам должны были назвать меня Акулиной. Так хотела мать, а отец не соглашался, и стала я Галиной.
В школе дразнили меня Галкой: «Галка, сколько ворон сосчитала?» Хоть и Галка, а отец называл Галинкой, мать — Галонькой. А Сергей — Степкой. Но Степкой он называл меня только в награду или когда хотел подбодрить: «Молодец, Степка!»
Очень мне хотелось остаться Галкой-Галиной, но и новые имена, представленные на конкурс, тоже нравились...
Мальчишеские имена звучат как марш: Красарм! Кокс! Велоктябрь! Электрон! Октябрин! Трест! Владлен! Антрацит! Красноцвет! Колумб! Буревестник!..
Девчачьи — лились, как песня: Марсельеза! Аврора! Владилена! Поэма! Ленина! Заря! Металлина!...
Какое имя выберет себе Люба Одоленко? Возьмет самое певучее!
Чеботарь сказал, что Люба может остаться Любой, потому что Любовь — слово революционное.
А я подумала: «Какое бы новое имя подошло к Левко? Лев — царь зверей — имя не революционное. Зато фамилия — Макуха! Переменит Левко имя, а вдруг и фамилию — не найти его тогда на Донбассе...»
Черепок не хотел оставаться Николаем.
Царя Николая хоть и не Колькой звали, а Николаш-кой, но у Черепкова все совпадало с последним царем Романовым. Тот — Николай Александрович, и Черепок — Николай Александрович.
Площадь Николаевскую всех раньше в городе переименовали: дали ей имя большевика Тевелева, расстрелянного немцами.
— Не хочу царя-стервятника имя носить! — твердил Черепков.
Каждое новое имя утверждалось большинством голосов и записывалось в протокол:
«Николая Черепкова именовать Кимом Черепковым».
Непривычно было его так величать; чтобы не важничал, стали его поддразнивать:
— Эй, Аким!
Ведь и это имя было в святцах.
Ким злился. Но зато улыбался, когда называли его по-дружески: Кимка Черепок! Он сказал, что и отца убедит взять другое имя. Вместе придумают они себе и новую революционную фамилию, не похожую на обидное прозвище «Черепок-горшок — битая посуда».
Долго подбирал новое имя Илья Пахман. Не к лицу ему быть тезкой бородатого Ильи-пророка, который только и делает, что «носится по небу на колеснице, чертей давит и дождиком из лейки поливает».
Выбирали, выбирали и выбрали ему замечательное имя — Овод. Все тогда зачитывались книгой Войнич о смелом революционере Оводе.
Митька Рогачев попросил, чтоб его переименовали в Карла, в честь Карла Маркса или Карла Либкнехта. Но общее собрание постановило: Карл Рогачев — звучит нескладно. Пусть Митька будет Трестом. Он согласился и покраснел.
Тося Ефименко согласилась быть Бастилией. Так и записала я в протокол: «Бастилия Ефименко», и с шумом отложила карандаш в сторону.
Все так и уставились на меня.
Пахман сказал:
— А ты назовись Марсельезой!
— Хочу остаться Галиной!
— Галина в серьгах, — усмехнулся Овод. Чеботарь сказал, что у них одна комсомолка Капитолина поменяла свое имя на Пролетарина.
— Это здорово! — сказала я.— А Галину не поменяю. И так мой отец попа не послушал, — защищалась я как могла.
Вопрос остался открытым. Я ничего не записала в протокол. Решила посоветоваться с Олесей, как мне быть, она даже слушать не захотела.
— Революционером надо быть на деле, а не по названию, — сказала она и вспомнила недавний случай, как на Шерстомойке у одного «переименованного» Алексея спросили: «Леша, как тебя зовут?» — а он ответил: «Забыл».
Зашла я к Тосе. Она рассказала бабке про наши новые имена. Тут мне влетело:
— А ты, середа,— вторникова дочка, заупрямилась? И раньше людям вторые имена давали, чтоб хворь не приставала. Назовись Красномилой! Это и в святцах есть, и теперь ко времени. А то с носом останешься, имен не хватит. Перекрести свой нос, чтобы дольше рос,— лукаво балагурила бабка.
...Чеботарь заранее предупредил, чтобы мы пришли в клуб на «Октябрины».
— Присоседимся к новорожденным с сосками и в пеленках, а когда взрослые разойдутся, мы останемся в зале и тоже хоть и без пирогов, а отпразднуем красные именины.
В клубе Шерстомойки должны были состояться первые красные крестины-октябрины. Бабке Наталке не терпелось на них побывать.
— Сроду не была на таком таинстве. Значит, и без купели жить можно.
В клубе было полно людей.
Ефименко пришли вместе с Андрейкой.
Бабку Наталку попросили подняться на сцену и занять место за красным столом вместе с молодыми, державшими на руках малышей.
Олеся начала говорить. Те, кому она желала счастья, лежали завернутые в пеленки и знать ничего не знали.
Играл оркестр. Торжественно произносились имена новорожденных.
Мальчика назвали Марксом!
Девочку — Энгелисой...
Взял слово Чеботарь. От имени комсомольской ячейки он сказал, что родившиеся в дни великих потрясений капиталистического мира получают свое имя от революции. Собрание обязывает их, когда они подрастут, научиться грамоте и изучить борьбу классов. Сейчас они зачисляются в члены комсомола с четырнадцатилетним испытательным стажем!
Еще не отгремели аплодисменты, Наталия Ерофеевна Ефименко подошла к стопке белоснежных пеленок, лежавших на столе, и начала подносить их молодым матерям.
— Получайте в подарок от советской власти, чтобы ваши и наши деточки росли не плакали, не болели,— говорила бабка, целуя в щеку каждую мать.
Заодно и Олесю поцеловала.
— Ну вот и без попов справились. — И, обернувшись лицом к залу, она громко произнесла: — Кумовья мои красные, сыны и дочки — голубочки, поздравляю вас!
Все захлопали. Бабку Наталку и Олесю молодые приглашали, кто «на пирожок», кто «на чарочку»...
Василь Игнатович с Андрейкой остались на вторые «крестины».
Пришли и новые гости — комсомольцы, товарищи Чеботаря. Вместе с ними и отец Черепкова. Чеботарь попросил его и Василь Игнатовича за красный стол.
Чеботарь говорил долго, бичевал старый мир и сказал, что юные Спартаки будут достойно носить новые имена.
В честь каждого получившего новое имя оркестр играл туш. Когда Чеботарь назвал Рогачева и он смущенно под нялся, на сцену вбежала высокая, худая женщина — мать Рогачева.
— Пойдем, пойдем отсюда!
Она так посмотрела на Митьку, что он покраснел до ушей.
— Мамаша! — попробовал успокоить ее Чеботарь. Но она, уже не помня себя, закричала:
— Господи, люди добрые! Сына у вдовы отнимают! Не бродяга он, чтобы имя свое таить! Не переиначивайте!
Чеботарь горько улыбался, не зная, как продолжать торжество.
— Да уведи ты ее! — крикнул Василь Игнатович Митьке.
По какому-то знаку вдруг заиграл оркестр. Андрюшка, воспользовавшись переполохом, оживился и, подпрыгивая, начал выкрикивать:
— Робин, Робин, где ты Робин Крузо?!
Так и не услышал Рогачев туш в честь своего нового имени.
— Товарищи, не падайте духом! Гражданка Рогачева — темная жертва мирового капитала, — пояснил Василь Игнатович. — А муж ее был чистый пролетарий! Я с ней сам деликатно поговорю.
Чеботарь махнул рукой.
Оркестр играл и играл туш в честь Красноцвета, Болта, Бастилии и даже Гайки...
...О Рогачеве не было никаких известий, как в воду канул. Будто мать не только увела его из клуба, но и заставила покинуть новую юнно-спартаковскую жизнь.
Ребята слышали, как по дороге она все грозилась:
— Розгой тебя, розгой проучу тебя, рыжего!..
Мы посылали Колю Черепкова проведать друга, но ему не хотелось встречаться с «Рогачихой». Тоська посмеивалась.
— Засунет она тебя в печь!
Решили пойти все вместе:
— Ухватим Рогача!
Дверь открыла нам «жертва мирового капитала».
— Хлеб да соль! — спокойно произнес Черепок.
К нашему удивлению, мать Рогачева нам обрадовалась. И мы услышали, не веря своим ушам:
— Трестушка! К тебе пришли!
Рогачев с книжкой в руках лежал на железной койке. Продранный тюфяк съехал. Голова была забинтована, только для глаз оставлены щелки.
— Рассаживайтесь, — сказал Рогачев.
А в комнате было всего две табуретки.
Мать скрылась за ситцевым широким пологом, чтобы нам не мешать. Не вылила ли она в своем гневе на голову сына ушат крутого кипятка? Спросить об этом мы не решались.
Митька просил принести ему как можно больше книг, так как учебник немецкого языка Глезера и Пецольда, который был в его руках, он прочитал несколько раз с начала до конца.
С немецким языком у него произошла целая история, о ней стоит рассказать. Учительница немецкого языка знакомилась с учениками. Когда очередь дошла до Рогачева, вспомнила, как еще в первом классе он переполошил всю школу, проглотив карандаш.
— А, это ты, шпа-го-гло-татель! — с насмешкой сказала она.
Этого ей не мог простить Рогачев. «Ехидная, над чужой бедой смеется». В отместку он подкладывал под стул пробки от пугача и изобретал разные каверзы. Как только начинался урок немецкого языка, учительница стала выставлять Рогачева за дверь.
Учился он хорошо. А по немецкому за целый год ни одной отметки. Его должны были оставить на второй год. Но втайне от всех все свое свободное время Рогачев изучал немецкий язык сам. Его экзаменовала комиссия. Оценка была наивысшей.
А о том, почему он забинтован, мы так и не узнали. Но опять очень удивились, когда мать Рогачева нам заулыбалась и просила не забывать ее Трестушку...
Забросали мы Трестушку книжками. «Шпагоглотатель» глотал одну книжку за другой. Приносили ему и свежие номера харьковской газеты «Юный Спартак».
Как-то мы застали его разбинтованным. Кожа на лице отслоилась, отстала; не только веснушек, но и бровей не было видно.
— Смотри не ковыряй лицо, тебе же врач не велел,— то и дело напоминала мать.
Когда снова через несколько дней пришли проведать, на его лице появилась новая, розовая кожа. И веснушек было меньше, словно Митя «обновился», как «чудотворная икона».
Он сам рассказал, что произошло после того, как они с матерью покинули клуб.
— Как только не распекала она меня по дороге! Ругала перекрестом, иноземцем; говорила, что хоть я и один у нее, а она от меня откажется. Называла меня рыжиком. Вот и обидно стало. «Что ж ты думаешь, у тебя от их купели веснушки слезут?» — «Слезут!» — говорю. Утром отправился на Благбаз и достал себе особо крепкой мази. Пришел домой и начал втирать ее в нос и в щеки. Размазал по всему лицу. А ночью проснулся от боли. Ничего не вижу: глаза заплыли. Завыл я. Мать поднялась, не знала, как помочь. Полотенце мокрое к лицу прикладывала. Я ору: «Ой, жжет! Ой, помру!» Мать заплакала, говорит, что это она виновата. Как только ни называла: и Митенькой, и Митюшей, и Димочкой... «Называй меня Трестом,— кричу я ей,— тогда не помру!» Тут-то мать согласилась: «Трест так Трест, все равно мой». А я ей говорю: «Полегчало». Утром пошли мы в больницу. Доктор велел первым делом выбросить на помойку остатки благбазной мази и лицо забинтовал.
Рогачев очень любил свою мать. Она была дворником и к людям ходила полы мыть; бралась за любую работу, лишь бы сын учился в школе. Набьет его, бывало, а он не обижается; всегда все ей рассказывал.
Если бы вдруг затерялись мои протоколы, у матери Рогачева все можно было бы узнать, как мы живем, где были, что видели...
Тосю никто не называл Бастилией, а Рогачева несколько дней величали Трестом. Мать называла его Трестушкой.
Веснушки снова появились, но весь он как-то изменился; стал воевать со своими желтыми, как подсолнух вихрами, смачивать их, зачесывать.
Толкнул его Чеботарь в плечо и спросил:
— Откуда ты такой взялся?
— От солнца оторвался! — ответил Рогачев. ...С каждым днем все теплей и светлей.
На буграх открылись проталины. Почернели берега Лопани. По канавам зажурчала вода. Над городом откры-
лось голубое весеннее небо. Жаворонки подымались выше заводских труб, подальше от серого дыма и пели на лету, в глубине синевы.
Женщины вытаскивали на солнце подушки и перины, одеяла и половики.
В эти дни «обновлялись» скворечники. За домами рыхлили грядки.
Мы с мамой босыми ногами замешивали глину. Тщательно замазывали все дырочки и трещины в стенах дома, белили его снаружи и внутри. Как любила я водить рогожной кистью! Как ни просила мама, а я не дала ей взять кисть в руки. Так натрудишься за день, что к вечеру мускулы болят.
Много было весенних забот.
Тогда по всему Харькову комсомольцы и Спартаки сажали деревья. И на нашей заводской улице решили потягаться с ветром. С песчаных пустырей он нес сухую серую пыль.
Завод «Свет шахтера» дал нам посадочный материал.
День был воскресный. Приближалась пасха. Богомольные люди шли в церковь...
На лавочках у заводского клуба расположился клубный оркестр. Среди музыкантов был и дядя Саша с балалайкой.
Мы копали ямки, копали и пели:
Долой раввинов сказки,
Долой обман попов!
Не признаем мы
пасхи,
Не слушаем ксендзов...
Пахло прохладной, сырой землей.
Я впервые сажала деревья и у кого-то спросила:
— А через сколько лет они вырастут? — Как пойдут, — услыхала в ответ.
Рядом со мной стал копать дядя Саша.
— Снялся я с якоря; балалайка не убежит, поработаю садовником! — сказал он мне и с удовольствием надавил ногой на лопату. Копнет раз, другой — и ямка готова.
— Привычное дело! — произнес дядя Саша. — И ты нажимай!..
Я раскраснелась, стараясь все делать так же, как Черепков.
Он взял деревце в руки и стал осматривать с разных сторон. Подправил корешок. Осторожно-осторожно опустил в ямку. Потом взялся за лопату, не спеша набросал землю и, добродушно улыбаясь, начал ее притаптывать...
Далеко летели прохладные брызги, когда я принялась за поливку. Лейка была с ведро. Как-то получилось, что заодно полила и дядю Сашу.
— Я и так сажень косая! Ты бы Кольку моего полила, чтобы лучше рос. Только рубаху замочила. Лей, лей мне на голову! — И дядя Саша подставил под лейку свою крупную светлую голову.
Деревце за деревцем посадишь, польешь, и оно будто встало на ноги, как теленок, только что появившийся на свет, еле-еле держится на слабых и тонких ногах.
С обеих сторон улицы посадили тополя, липы и даже яблоньки.
На следующее утро под окном раздался тревожный голос:
— Галя! Галя!
Я высунулась в окно.
— Выходи! Пойдем! Сама увидишь, — быстро проговорила Тося.
Я сразу поняла: что-то случилось... Мы побежали.
Нельзя было поверить глазам: на земле валялись поломанные, растерзанные деревца. Одно из них торчало корнем вверх... Все они были выдерганы, затоптаны, погублены.
Кто мог это сделать?!
Мне вспомнилась тенистая липа у нашего дома. Как отец горевал, когда Клепцов спилил ее. До сих пор там пусто.
Кому помешали молодые деревца?
Казалось, что Клепцов и генеральша Желтикова, церковный сторож москалевской церкви и сам поп Амвросий поглядывают на нас из своих окон, торжествуя и прячась за занавесками.
Через несколько дней на посадку деревьев вышло много людей. Даже лопат не хватило. Работали молча, сосредоточенно.
После посадки мы не разошлись по домам, а в первый же вечер установили дежурство.
Дошла очередь и до нашего звена.
Идут редкие пешеходы. Просверлишь недоверчивым взглядом. «Нет, — думаешь, — этот не посмеет».
В палисадниках зацветала сирень. Дышишь и не надышишься. Казалось, и от молоденьких деревьев уже веет какой-то свежестью.
Над воротами завода «Свет шахтера» в сумерки зажигалась красная звезда, а в ее середине, сквозь стекло, просвечивал силуэт шахтерской лампочки.
Мы подолгу смотрели, как в окнах литейного вспыхивали огни раскаленного металла.
За заводской стеной все вздрагивало и свистело. В грохоте и огнях рождались шахтерские светлячки.
Отойдешь от завода за квартал, и слышно, как в некоторых домах бьют стенные часы...
Всю ночь ходили по улице. Только на рассвете разошлись по домам.
Наступление началось с двух сторон.
На Мыловаренном заводе маме не давали покоя. Ее записали как неграмотную. Она обижалась, говорила: «Я малограмотная».
Прошел слух, что Чека взялась обучать всех неграмотных: «Чрезвычайка грамоте обучает. Всех неграмотных будут допрашивать, как контрреволюционеров и спекулянтов, потому что неграмотный — враг советской власти».
Другие толковали, что неграмотный — это вроде как тяжелораненый. Всех неграмотных положат в больницы и госпитали и не выпустят, пока не научат читать и расписываться.
Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контрреволюцией на первых порах «сороки» спутали с новой Чрезвычайной Комиссией по ликвидации неграмотности.
Говорили тогда о трех фронтах: первый фронт — гражданская война, второй — борьба с разрухой, третий фронт — культурный.
В стране было больше неграмотных, чем грамотных.
На улицах висели плакаты: «Грамотный! Обучи неграмотного!», «Только грамотная мать — опора своего ребенка», «Неграмотный — тот же слепой, всюду его ждут неудачи и несчастье».
Олеся говорила, что каждый юный Спартак должен обучить, по крайней мере, одного неграмотного. Она интересовалась, есть ли неграмотные в наших семьях.
Илья Пахман похвастался — его отец сам набирает из свинцовых букв книжки, а мать читает, но только по-древнееврейски.
А я так и сказала: «Мать неграмотная».
Раньше мама скрывала от нас, что не пришлось ей учиться даже в начальной школе; писем не писала, мол, руки болят, очков нет. Да что там очки, когда надо глаза беречь, она их попортила над паром...
Но стали мы старше, и мать призналась, что она «читает» только хорошо известные ей вывески.
Скажет кто, что она неграмотная — мать обижалась. Как-то в сердцах сказала:
— Так уж было заведено: копили на саван и ладан, на черный день и недобрый час, о грамоте и не думали, считали, что борщ варить да детей пеленать можно и без грамоты.
Раньше мать успокаивала себя: она хоть и неграмотная, зато муж шибко грамотный, все расскажет, а где надо и за нее распишется.
Как-то вернулась я домой, а мама, очень встревоженная, молча протянула мне записку. Я сразу узнала почерк сестры и начала читать вслух. Я читала, а мать плакала.
Лена умоляла на нее не сердиться: она покидает нас, потому что надоело ей жить в хатенке, хочется ей свет повидать. А поступила она так, по секрету, только потому, что иначе бы никогда не вырвалась... Мол, в Москве у нее подруга... Очень она перед нами виновата... А вернется обратно, когда станет киноактрисой.
Мать от этой записки чуть с ума не сошла. Я боялась, как бы она опять не занемогла.
— Лена, Лена! И теплого с собой ничего не взяла, — растерянно говорила мама.
В эти же дни Лепехин принес письмо от Неонилиного Алеши. Письмо было радостное: наконец мама стала бабушкой, а я — тетей. Мой племянник, который родился за тысячи километров от Харькова, весил больше десяти фунтов.
Мать обрадовалась, принарядилась и пошла на завод оживленная, с блестящими глазами.
— Не утерплю, похвастаюсь внуком!
Вскоре Лепехин вручил маме письмо от Лены и повестку на посылку. Сестра писала, что обнимает нас крепко-крепко. Живет она у подруги. Уже снималась в кино - «в толпе». Посылка была заполнена коробками московских папирос, была в ней и банка сгущенного молока.
Как никогда, мать ждала писем.
Ответы я писала под ее диктовку. Мать задумается и, вздохнув, обязательно скажет: «Во первых строках моего письма...»
Строка за строкой... Устанет мама, а я запечатаю письмо и представляю, как попадет оно под штемпель, потом в баул; будет трястись в почтовом вагоне, мимо маленьких станций и больших городов...
Принесет Лепехин ответ; мать осторожно надорвет конверт, вынет письмо, а прочитать не может. Меня дожидается.
Вот и начала я подзадоривать маму письмами от старших дочерей.
Со всех сторон начали ее «грамотой» донимать. На заводе женщин, занимавшихся в ликбезе, отпускали с работы на два часа раньше. Мать не соглашалась, говорила, что совестно ей сидеть с молодыми на одной скамье.
— Где это слыхано, чтобы взрослых обучали? Старого учить что мертвого лечить! Не было смеху, так повеселить захотели!
Олеся сказала, что я должна во что бы то ни стало начать заниматься с мамой — всеми уважаемой работницей Мыловаренного завода, упаковщицей Марией Ивановной.
Сергею этого никто не поручал, но и он сказал маме, что она не должна позорить семью. Сам Владимир Ильич Ленин подписал декрет: «Граждане от 8-ми до 50-ти лет обязаны обучиться грамоте».
На следующий день мать вымыла голову, прибрала в комнате, будто ждала гостей, приоделась и сказала мне строго:
— Учи!
Я даже растерялась. С чего же начать? Правда, до этого я несколько раз побывала в районном «Грамчека», где старичок в чесучовом пиджаке роздал нам по листку бумаги, остро отточенному карандашу и велел, чтобы мы записывали все, что он нам скажет.
Он начал говорить, мы записывать. А он остановил:
— Куда торопитесь? Я объясню, поймете, тогда и запишите.
Он объяснял, как надо разделять слова на слоги; каждый новый урок надо начинать с повторения пройденного, а самое главное — предупредил, чтобы мы не смущались, если наши ученики будут путать и огорчаться.
Мать уставилась на меня.
Я раскрыла тоненький букварь. Мать перекрестилась и взяла карандаш.
— Не спеши, мама. Вначале без карандаша.
Мы начали не с букв, а прямо со слогов. Я говорила тихо-тихо, будто не учила, а разговаривала. Незаметно вошла в роль учительницы, стала говорить: «Ну, вот так, так, правильно. Ты это не путай, пойми!»
Я убедилась, что отдельные буквы мать знала и без меня, а произносила их робея, с трудом, будто не своим голосом: «сы», «хы», «мы»...
Я была терпелива, а потом все же забыла советы ровного и спокойного старичка в чесучовом пиджаке и повысила голос. Зная, какая мать вспыльчивая, я испугалась: «Как бы наш первый урок не стал последним».
Но мать только покраснела, поправила темное платье и с мучительным выражением лица продолжала «мыкать».
Как помогло мне тогда слово «мама»!
Мама легко, одним дыханием слила два слога, и теперь уже не «мы-а-мы-а», а без усилия произносила: «Мама».
Я хотела ее поцеловать от радости, но мать отодвинулась.
...Урок за уроком. Одолели несколько страничек букваря, и мать уже свободней разделяла и слито, не растягивая, произносила слова. А потом стали медленно читать:
— Наша сила — Советы.
— Грамота не мука.
— Крестьянин рабочему — хлеб, а рабочий крестьянину — серп.
За первыми буквами, за первыми словами — первые фразы.
Будто не азбука, не букварь, а песни времен гражданской войны, прекрасная «Варшавянка», помогали мне обучать маму.
О наших занятиях Тося рассказала бабке Наталке. Та обиделась: к ней никто не приходил, ее никуда не записали. Когда же узнала, что в декрете сказано «от 8-ми до 50-ти», рассердилась:
— Не в грамотную Чека пойду, а в настоящую, повсюду мне двери открыты; никогда никого ни о чем не просила, а тут скажу: «Рады не рады, принимайте, Христа ради. Всех детей вырастила, внуков подняла, а на меня наплевали! Не выйдет! И я хочу на старости лет грамотной быть, чтоб самой все номера на трамваях разбирать. А то из-за этой грамоты чуть богу душу не отдала: слабительное с пузырьком «Осторожно — мышьяк для крыс» перепутала. Вот тебе и спица в колеснице!
Мы не знали, в каком Чека побьгвала бабка Наталка, но так или иначе она куда-то пошла, а вернулась домой с разрезной азбукой.
Бабку все обучали, и Василь Игнатович, хотя он и не был особым грамотеем, и Тося — главная ее учительница. Олеся ее подбадривала. И я помогала Тосе.
Помню, как-то раз мы долго твердили: «Мы не рабы. Мы не бары. Не рабы мы. Мы не бары...»
Тося радовалась успехам своей ученицы.
— Вот видишь: мы не рабы. И Спартак так говорил. Придется и тебя, бабушка, в спартаковки записать.
— А ты учи да не смейся.
От старания у бабки Наталки резко обозначались морщинки на лбу. Глаза ее покраснели, будто воспалились. Медленно она читала:
— Баба не раба.
...У нас с мамой дошла очередь до карандаша и бумаги. Помню, как дрожал карандаш в маминой руке. Мне стало ее жаль, и я предложила: «Ты покури». Мать во время занятий не курила.
Она и без уроков часто брала букварь, листала его, забиралась далеко вперед.
Я уставала учить, а мать не знала усталости. В букваре было написано: «Весь день на фабрике тружусь, а после
фабрики учусь». Эта фраза стала любимой маминой поговоркой.
Перед тем как уйти в ночную смену, она брала букварь. Уложит свою «учительницу» и скажет: — Спи, не смотри на меня.
Мать уже свободно разбиралась в букваре и стала пренебрегать многими моими советами и наставлениями. Не захотела выводить палочки и крючки, а стала рисовать буквы. Ей помогло то, что в молодости она много вышивала и снимала узоры. Начертания букв стали для нее как узоры. Она срисовывала печатные буквы не только с букваря и картинок, но и с газет.
И курить стала совсем по-другому. Раньше быстро скрутит цигарку, а теперь, перед тем как скрутить, долго рассматривала газету.
Как-то раз она закурила и призналась:
— Бывало, смотрю на буквы, а что они обозначают — мне и невдомек. Никакого толку мне от газет не было. Будто одна скорлупа, а в середке пусто.
И бабка Наталка стала читать. Но вот писать ей было трудно: никак не могла привыкнуть, с какой стороны выводить буквы. Она кричала на Тосю. Тося просила отца, чтобы он не мешал ей, когда она обучает бабушку «чистописанию»... Так ловко мелькали в бабкиных руках вязальный крючок и спицы, а вот когда бралась за карандаш — пальцы ей не подчинялись.
— Плачу, а учусь, — вздыхала бабка.
Тося не сводила глаз с непослушного карандаша:
— Не с того конца пишешь! Ну разве трудно тебе, бабушка, букву «О» написать? Ну, давай, бабушка, выводи кружочек, вот молодец! Какой обруч у тебя получился! Сейчас покатится! Ну, бабушка, нарисуй воротца, ведь «П», как ворота. Снизу, снизу начинай!
И на белой бумаге, один за другим, появлялись «ворота», и «обручи», и буква «В», похожая на крендель.
...Первым маму экзаменовал Сергей.
Мать читала стихи Демьяна Бедного, напечатанные в газете «Пролетарий». А потом печатными буквами принялась писать письмо «до востребования» Лене.
Сергей не поставил маме никакой отметки, но сказал:
— Мама, ты герой! Научилась читать, считать, писать.
— Герой, едва царапаю, — отнекивалась мама. А потом призналась: — Уже в получку сама расписалась.
Мы с Сергеем прыгали от радости, а мать чуть нараспев читала: «Советское тело без коммунистического сердца жить не может».
Как хотелось всех созвать, чтобы и другие слышали и видели, как читает и пишет наша грамотная Мария Ивановна! Мать все не знала, как нас успокоить, смущалась, потом отложила газету и сказала:
— Это вы на голодный желудок так прыгаете! Мать сдала экзамен не только Сергею, но и в ликбезе
на Мыловаренном заводе. Ее внесли в списки как грамотную.
Коси, коса, пока роса! Я вспомнила совет, полученный в районном Грамчека, и сказала маме:
— А если теперь не будешь читать, опять, мама, можешь стать неграмотной.
— Теперь уж полуграмотной, — поправила меня мама. — Так себе, середка наполовинку.
На старой жестяной коробке от монпансье, где хранились у нас пуговицы, было выведено фасонными буквами: «Жорж Борман».
— Жорж! В этом слове две жабы, — сказала мама и рассмеялась.
Улицы для мамы стали как книги, как буквари. Увидит где плакат или объявление, обязательно остановится и прочтет.
Вскоре и бабка Наталка пришла в комиссию. Вместе с ней пошли и Тося, и Василь Игнатович. Он не то подсказывал, не то поддакивал; протирал стекла очков, будто не бабка Наталка, а он сдавал экзамен. Члены комиссии после экзамена жали руку бабке. Ее сфотографировали и сказали, что снимок пошлют в Москву, Надежде Константиновне Крупской. Бабка Наталка ответила, что она сама напишет письмо жене Ленина, а чтобы было получше и красивей, поможет ей «черноглазая».
— Ты, бабушка, и сама справишься, — сказали в комиссии бабке Наталке.
Василь Игнатович получил «выписку из протокола». Черным по белому там было написано: «Гражданку Ефименко, Наталию Ерофеевну, считать грамотной».
Дом на пустыре, на самой окраине.
Рассказ о нем начну с другого дома — в самом центре города. На площади Тевелева, в большом белом здании с колоннами, помещался ВУЦИК — Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет.
Председатель ВУЦИКа, Всеукраинский староста Григорий Иванович Петровский, был большим другом юных Спартаков. Он часто рассказывал нам про свою жизнь: как пришлось ему, когда был в малых летах, прислуживать в столовых и харчевнях, продавать газеты, ночевать в ночлежках... Ростом был мал, в мастерские не принимали, а надо было помогать отцу.
Однажды, после собрания в редакции «Юного Спартака», вышли мы из здания ВУЦИКа, а из другого подъезда вышел Григорий Иванович. Он увидел нас, подозвал и начал расспрашивать о спартаковских делах. В это время хлынул дождь.
Григорий Иванович предложил нам переждать дождь у него в кабинете. Гурьбой поднялись мы за ним по широкой лестнице.
В кабинете он рассадил нас в кресла, а сам сел за письменный стол. Посредине стола стояла огромная металлическая чернильница в виде земного шара, с водруженной на нем пятиконечной звездой.
Григорий Иванович снял очки в оловянной оправе, такие же, как у Василь Игнатовича, и не спеша начал говорить нам:
— Худо нам приходилось, туго еще и сейчас. Но все же самые тяжелые времена позади. Кто может спасти беспризорных детей, собрать их и обогреть? — спросил Григорий Иванович. И тут же ответил: — Только государство, рабочие, крестьяне, красноармейцы и вы — наши пролетарские малюки!
Дождь перестал бить в окна. Григорий Иванович поднялся. Вместе с нами вышел он из здания ВУЦИКа.
— Дети народ серьезный! — сказал он нам на прощание.
Мы разошлись не сразу; постояли еще на площади и, задумавшись, смотрели, как уходил Петровский. Он шел без пальто, шел и помахивал палочкой.
...На песчаном пустыре над Лопанью возвышалось грязно-серое двухэтажное здание. Пустыми темными отверстиями вместо окон дом смотрел на пустырь. Его обходили стороной.
Что только не говорили об этом доме: «По ночам оттуда доносятся приглушенные стоны; в подвале воры хранят краденое...»
И вот в доме на пустыре решено было открыть еще один детский дом. Много было детских домов в Харькове, но еще сотни детей оставались без крова.
Заведующей назначили Олесю.
Первый раз она пошла туда с лопатой. Ее сопровождал Андрейка. Он уже давно не шлялся из дома в дом, а повсюду следовал за Олесей. Они стали неразлучными не только потому, что жили рядом.
Как-то пришли женщины в женотдел и рассказали Олесе, что мальчишку видели в соборе во время богослужения. Хоть и мал он был для причетника, но Вера Ефименко затащила его в собор. Мальчишка приглянулся. Его облачили в позолоченную епитрахиль, и он, с любопытством поглядывая по сторонам, начал переносить иконы, подавать свечи...
— Благословенно царство отца и сына и святого духа ныне и присно и во веки веков! — гудел поп.
— Ами-и-инь! — неслось под куполом.
Андрейка, стараясь не запутаться в непривычной одежде, все делал точь-в-точь так, как более старшие и умелые служки.
За свое старание Андрейка получал какое-то вознаграждение, а главное, много маленьких просфорок, более белых, чем «одноглотки» Благбаза.
Во время службы в собор вошла Олеся. Она не стала дожидаться конца, прошла вперед, взяла Андрейку за руку и под гневные взгляды и возгласы молящихся вывела его из собора, бросив блестящее облачение на паперть.
Андрейка прослезился, надулся, а Олеся увела его в Карповский сад, и никто не знал, о чем они там говорили.
Только после этого, с согласия и одобрения бабки Наталки и Василь Игнатовича, Андрейка переселился в комнату Олеси и стал спать на кровати под портретом дяди Оскара.
...Несколько дней подруги Олеси, работницы Шерстомойки, Мыловаренного, с Канатной и Щетинной фабрик расчищали здание.
Детдому был дан ток. По вечерам мы ходили смотреть, как засветились окна в доме на пустыре.
Совсем недавно беспризорники, ставшие детдомовцами, жалостно распевали на базарах, у вокзала, на тротуарах:
На що ж ты мене, матычку, породила?
Ой, лучше б ты меня, матычку, задавила.
В детдоме же получили крышу над головой, а будто «с крыши свалились». Шумной ватагой начинали возню. Играли в любимую игру — «тесну бабу»: набьются все на одной скамейке и начинают друг друга толкать, вытеснять.
Мы встречали Олесю всегда озабоченной. Как из-под земли она доставала матрацы, рваные трофейные шинели, тумбочки...
Коек не хватало. Дети спали по двое на одной койке; многие устраивались на полу, подкладывая под голову тряпье.
Василь Игнатович давно скучал без постоянной работы.
Олеся уговорила его пойти в детдом завхозом.
По случаю вступления в новую должность Василь Игнатович тщательно побрился. Этим он, по своему обыкновению, отмечал все решающие перемены в своей жизни.
Василь Игнатович начал с того, что было ему всего ближе: притащил в дом на пустыре целый ворох деревянных колодок, куль щетины, конского волоса и коровьих хвостов — «приданое» детям от рабочих Щетинной фабрики.
Он хвалил «товар» и все просил Олесю, чтобы она попробовала длинную и крепкую щетинку разорвать руками.
В детдоме еще не было мисок и ложек, но уже повсюду в углах стояли половые щетки; на кухне было полно всякой всячины для мытья посуды.
Василь Игнатович говорил, что для младого племени он понаделает и зубные щетки, и кисти — писать картины.
Пришлось ему заняться и кровлей, ведрами, лужением котлов, матрацами и одеялами.
Он говорил, что лучше бы и не доставали одеял: из-за них такая возня поднималась каждую ночь, когда детдомовцы начинали отнимать одеяла друг у друга.
Утром появлялся Василь Игнатович и всех подбадривал:
— Скоро и у нас будет хорошая жизнь!
— Хорошая «жисть»! — передразнивал его Васька Белокопыт. — Тебе хорошо говорить, тебя «цыганский пот» не прошибает, а у меня одеяло ночью к телу примерзает, зуб на зуб не попадает.
И Васька, выворачивая губы, начинал притворно стучать зубами.
Заводилы забавлялись днем и ночью. Спящему в рот совали бумажку и поджигали ее — «пускали мушку». От этих «мушек» комнаты были полны дыма.
Однажды, когда было особенно дымно, в детдоме поднялся бунт. Бунтовщики превратились в артистов шумового оркестра: стучали в окна, топали, свистели... Особенно досталось Василь Игнатовичу. Он прибежал домой. Я никогда не видела его таким расстроенным.
— Еле выбрался. Окружили они меня и кричат, что я их околпачил; требуют, чтобы во всех окнах форточки были, дышать, мол, нечем. Так и сказали: если через два дня не будет форточек, разнесут весь дом.
Олеся успокоила ребят и обещала, что все окна будут с форточками.
Заработали плотники: снимали рамы, строгали, ставили большие форточки, прилаживали крючки. Форточки растворены. Дышите, ребята, свежим воздухом! Форточки принесли не только прохладный осенний воздух, но и новые беды.
«Бунтовщиками» верховодил Васька Белокопыт — главный «мучитель» Василь Игнатовича.
У Васьки на впалой груди красовалась татуировка, синее очертание сердца. Он и Олесе грозил, что «покажет всем хвост». Василь Игнатовичу плюнул в спину, пригрозил: «Ни гугу!» — и показал комбинацию из трех пальцев, именуемую «фигой».
Оказывается, о форточках Белокопыт хлопотал не зря.
Не так легко было удрать из детдома. У дверей поочередно дежурили и воспитатели, и сама Олеся.
Побег был совершен одновременно из многих форточек. Белокопыт научил: вначале ноги вперед, туловище боком, а потом и голову.
Чудесный, прохладный воздух сочился в открытые форточки. В спальнях было просторно. Под одеялами спали самые маленькие, слабосильные, которых называли «обглоданными косточками», да девочки.
Большинство подопечных Олеси снова разбрелись по базарам, по мусорным кучам; залезли под скамейки на вокзалах, мотались по улицам.
Олеся собрала наше звено «Мы — кузнецы». Мне запомнилось, как она сказала:
— Вы дети, и они дети. Они вас лучше поймут.
У юных Спартаков свои законы. Мы произносили их как клятву: «Юный Спартак верен советской власти и стоит на страже интересов рабочих и крестьян».
В одном харьковском детском доме жила Лиза Спартак, девчонка, написавшая Гимн юных Спартаков. Его пели тогда по всей Украине!
Мы, юные Спартаки, Рабочим всем друзья. Мы дети-коммунары Республики труда.
Пришло время, когда и нам, «пролетарским малюкам», как назвал нас Григорий Иванович Петровский, надо поступить так, чтобы слово не расходилось с делом.
...Снаружи здание детдома так и оставалось грязно-серым. Но внутри женщины снова белили, чистили, скребли; рабочие завода «Свет шахтера» строгали и сбивали расшатанные доски пола, красили. Все комнаты и коридоры пахли стружкой и свежей краской.
Василь Игнатович раздобыл новые мешки для матрацев и длинную белую скатерть для праздничного стола. Он принес и половики — подарок от бабки Наталки.
В успехе задуманного больше всех сомневалась кладовщица Серафима Анисимовна, прозванная «Курипоч-кой». Высокая, худая, похожая на сухую метлу, она меньше всего напоминала курицу, но прозвище заслужила
из-за того, что громко кудахтала, как курица: «Куда смотришь?», «Куда идешь?», «Куда повернулся?»...
Кудах-тах-тах!
Классная дама в отставке, она считала, что всем сорванцам место не в детдоме, а за тюремной решеткой. Заодно она бы, без сомнения, отправила в тюрьму и всех спартаковцев, и даже Олесю — всех, кроме Василь Игнатовича. Он всегда был с ней очень вежлив.
В те дни мы допоздна не покидали детдом. Писали декорации и клеили флажки, чтобы украсить ими все спальни.
Василь Игнатович торжествовал: пошли в ход его кисти и кисточки.
Я снова занялась игрушками: клеила, сшивала и рисовала. «Чертей» надо было изготовить совсем особенных, похожих на Ваську Белокопыта и других беглецов-зачинщиков. В сногсшибательном коротком представлении эти «черти» должны были изобразить недавнее «бегство по системе Белокопыта».
В комнату вошла Серафима Анисимовна. В руке она держала тряпочкой большой горячий гвоздь. Подошла к зеркалу и начала закручивать этим гвоздем свои бесцветные волосы. Потом обернулась, осмотрела нас всех осоловелым взглядом и, держа гвоздь в волосах, начала говорить:
— Вы хотите поймать их, как обезьян! Обезьян ловят в клетку, где ставят заводную музыкальную шкатулку. Обезьяны любят музыку. А наши полудикие дети хуже обезьян! Куда вы их заманите? Куда музыку поставите?
Каждым своим словом она хлестала, как розгой. Пахман пытался ей возразить:
— Нет, они останутся здесь жить именно потому, что не обезьяны.
В это время вошел Павлик Чеботарь и радостно сообщил, что в детдом на спектакль придет Андрей Васильевич Багинский — герой гражданской войны, червонный казак, краснознаменец. Все в Харькове называют его: Ружпульпарк!
— Обещал прийти по первому зову. Хочет говорить с беглецами.
В разговор вмешалась Курипочка.
— Пустое задумали. Я не знаю, что там за парк, но на
шпанят не подействуют речи; мгновенно они не исправятся; Васька Белокопыт не станет примерным, — с возмущением произнесла Куршточка и уронила гвоздь.
— А если то, что мы задумали, не так уж тщетно? — спросил ее Пахман.
Курипочка подняла гвоздь с пола:
— Остерегайся, мальчик, как бы у тебя от затей не лопнула голова.
...После «диспута» с Курипочкой прошло еще несколько хлопотных дней.
Я заметила, что стоило только появиться Олесе, как Курипочка замолкала...
Олеся выглядела усталой, будто не Курипочку, а ее изнурила бессонница. Но даже усталая, она со всеми говорила с улыбкой. Чуть насмешливо предложила Курипочке сесть за швейную машину и подшить носовые платки. С Василь Игнатовичем разговаривала серьезно, а потом полушутя посоветовала сдружиться с Белокопытом, даже если на первых порах и «смылит» у него кисточку для бритья.
Олеся подошла и ко мне, взглянула на забавные рожицы «чертей». Я думала, она рассмеется, а она на минуту задумалась и, сдвинув брови, спросила совсем о другом:
— Как ее зовут, девочку с карими глазами? Клепцова дочка? Ты бы и ее позвала!
...Койки застелены чистыми простынями. На окнах белые занавески. Сложены стопкой носовые платки.
Спартаки должны стать нарочными и гонцами.
Я пошла в группе, где старшим был Илья Пахман.
Уже стемнело, когда мы добрались до Южного вокзала. Большие вокзальные двери не закрывались. Голова отяжелела от тревожного гула и толчеи. В зале остро пахло карболкой. На полу, покрытом окурками, огрызками, рваными тряпками, лежали бездомные люди. Под скамейками копошились беспризорные дети. Из-под одной высунулся мальчишка лет шести, перемазанный нефтью и углем. Вылез, засопел, протянул худенькую руку и жалостно пропел:
— Дяденька, исть хоцца!..
Беспризорные вылезали из-под скамеек. Лица исцарапаны. Руки и ноги в синяках.
Илья начал громко рассказывать, что в детдоме на пустыре будет спектакль и карнавал.
В это время из другого конца зала раздался свист. Мы обернулись и увидели мальчишку в лохмотьях. Он скакал на одной ноге в изношенном ботинке, с отставшей подошвой. Всех растолкал, прислушался к тому, что говорил Пахман, и с досадой произнес:
— Мне приснилось, что пассажирка банку с медом разбила. Угощение будет — придем. Нажраться бы досыта! Суп патафе, котлеты гаше. Привет Курипочке от Шмеля!
Долго разыскивали Ваську Белокопыта. Нам сказали, что чаще всего он устраивается на ночлег в бочках у товарной станции, любит спать поближе к товарным вагонам, и у каждого из его друзей своя бочка, как отдельная комната.
Илья зашагал к товарной станции. Мы молча шли за ним по путям. Вот и бочки. Мы стучали в них, как в парадные двери. Никто не отзывался. Наконец с грохотом подкатила еще одна бочка. Из нее вылез парнишка. В темноте трудно было его разглядеть, но он показался мне большеголовым, с непомерно длинными руками.
— Эй ты, куцый! — совсем не злобно, лениво почесываясь, сказал он Илье.
Когда же «куцый» передал Белокопыту устное приглашение от имени Олеси посмотреть спектакль, Белокопыт подбоченился, сплюнул и произнес:
— На кой черт вы нам сдались! Не околпачишь. Знаем мы ваше царство небесное...
Илья не смутился и произнес:
— Это еще не все!
— Ну, не волынь, говори «все».
— Ружпульпарк придет! — особенно отчетливо произнес Пахман.
Белокопыт задумался, потом спросил:
— Это безрукий, с орденом?
— Он! Обязательно придет. И тебе велел прийти.
— А откуда он про меня знает?
— Я ему рассказал.
— А не наклепают нам затылки? — спросил Белокопыт. И сам ответил: — Не наклепают.
Он достал из кармана складной нож на шнуре.
— Перо видал? — спросил Белокопыт.
Илья ничего не ответил.
— Ни мур-мур! Это я так, для блезиру. Придем гуртом, — пообещал Белокопыт.
Юные Спартаки всю ночь во всех концах города будили и беспокоили беспризорных, устроившихся на ночлег в нишах подвальных окон, в подъездах и простенках, в афишных тумбах, у дверей и витрин магазинов, на сыром и холодном цементе. И всем говорили, что в детдом на пустыре придет Багинский.
Еще в сумерки засветились окна детдома. С улицы были видны столы, накрытые белым; в спальнях — гирлянды флажков.
В просторном зале, с блестящим крашеным полом, где должен был состояться спектакль, висел портрет Владимира Ильича Ленина. Будто и Ильич ждал — придут или не придут ребята?
Мы то и дело поглядывали на входную дверь. А что, если не придут? Неужели Курипочка будет торжествовать, смотреть на всех свысока? Недаром она вырядилась в длинную синюю юбку и в белую блузку с высоким воротом, подпиравшим ее сухую шею. Затянулась черным лакированным поясом!
Их еще нет. Но вот и Чеботарь и Пахман побежали кому-то навстречу. Он шел быстрым, широким шагом, высокий человек, затянутый в шинель. Бренча шпорами, поднялся на второй этаж. Улыбаясь, приложил левую руку к кубанке. На груди его орден Красного Знамени.
Резкий, пронзительный свист оглушил пустырь. Оборванные ребята выскочили из засады и гуртом, как говорил Васька Белокопыт, хлынули к детдому. Сам Белокопыт шел сзади вразвалку. На голове кепка, заломленная набекрень. Он подталкивал щуплого белокурого мальчишку на тонких, как спички, ногах. Тот был без шапки. От рубашки остался один ворот. На плечи наброшен рваный мешок с обтрепанными концами.
Олеся распорядилась пропустить не только тех, кто бежал из детдома, но и тех, кого ребята приведут с собой.
Мальчишки щурились от света электрических ламп, то и дело поглядывали на Белокопыта, будто спрашивали — что им делать?
Васька шел не спеша. Когда поравнялся с Василь Игнатовичем, легонько сплюнул, а Олесе кивнул головой.
Зал быстро заполнился.
Васька и его друзья будто и не обратили внимания ни на гирлянды разноцветных флажков, ни на плакаты. Все они не спускали глаз с Багинского.
Поднялась Олеся. На ней, как всегда, была легкая гимнастерка. На этот раз она застегнула и ворот и от этого казалась строгой. Сколько беспокойства выпало в последнее время на ее долю! Как ждала она — вернутся ли беглецы? Еще не произнесла ни одного слова, а мне показалось, что дрожат ее губы. Олеся подняла руку, опустила ее на плечо Багинского:
— Андрей Васильевич не щадил себя во имя революции, — начала Олеся. — Попросим его рассказать о том, как воевали славные червонные казаки.
В зале стало необычайно тихо. Никто не орал и не вертелся.
— Здорово, мальчишки, будущие казаки-червонцы! — весело сказал Багинский и улыбнулся. — Вот вы все смотрите на меня, ждете особенного рассказа, а я могу вам только сказать, что мы, червонцы, всегда были защитниками трудящихся и бедных всего мира.
Командовал я в восемнадцатом году бронепоездом. Со всех сторон нас окружили немцы. Путь к отступлению отрезали. Не отдавать же бронепоезд врагу! Я нагрузил в тендер пироксилина, пудов с десяток, провел бикфордов шнур, зажег и пустил бронепоезд к немцам. А сам с ребятами наутек. Немцы начали обстреливать бронепоезд. Потом, когда осмотрелись, увидели, что на бронепоезде никого нет. «Хох! Хох!» — кричали. Только остановили они бронепоезд, как раздался взрыв. Никто не уцелел. За много верст кругом все дома остались без стекол. Только так и надо!
Багинский говорил отрывисто, но не сыпал словами, а были у него свои какие-то затаенные «точки», так же как и свои «тире»... Посмотрит вверх, призадумается, вспомнит...
Вдруг он смолк и провел ладонью по волосам... Но он уже приковал нас к себе. Сейчас снова хлестнет коня! И мы понесемся в самую гущу боя...
Кто-то не удержался и, воспользовавшись короткой паузой, спросил:
— А что за слово такое — Ружпульпарк?
По лицу Багинского проскользнула сдержанная усмешка.
Тогда поднялся сидевший рядом с ним Павел Чеботарь:
— Андрей Васильевич свою правую руку потерял в бою с врагами советской земли. В его теле осталось восемнадцать пуль и осколков. Их невозможно извлечь. Вот поэтому и назвали его Ружейно-пулеметным парком. А коротко — Ружпульпарком.
— Расскажите, пожалуйста, о своих ранениях! — закричали со всех сторон.
— У Хорола осколок рассек мне верхнюю губу, за усами не видно,— начал Багинский. — У Кременчуга осколок ударил в живот, пробил сумку, да с такой силой, что я завертелся как волчок. В правом легком у меня свинцовая пуля Смит-Вессона, а в левом — чугунная германская пулька. На Восточном фронте картечь живот разорвала. И за то спасибо — оторвала мне отросток слепой кишки, аппендицита не будет!
— А руку? — раздался голос из зала.
— Ее отрывало дважды: первый раз вражеский осколок пригвоздил к щиту орудия; стоял я и ждал прихода врача. В это время ранило меня в ногу. Все равно продолжал стоять. Пришел врач и, пока я стоял, делал мне операцию. Одним словом, деникинская работа, — усмехнулся Багинский. — Вернулся к своим, поздравил друзей с победой, а себя с оторванной рукой — так в песне поется. Приделали мне искусственную, стал я левшой. Поехал укреплять Синельниково. Пошел в разведку. Влез на гребень, а тут шрапнель разорвалась. Угодило в самую кук-су. — Багинский похлопал себя по обрубку правой руки у плеча. — Приставную оторвало. Нога перебита. Дополз назад. По дороге ранило в грудь, обожгло висок. Меня на том свете, должно быть, с фонарем давно ищут, — сказал Багинский.
Своими рассказами он перенес всех из уютно убран-
ного зала на поля сражений гражданской войны, где били орудия и разрывалась шрапнель. В каждом слове Багинского была частица его души. Говорил и снова все переживал.
Мне казалось, что мы не в зале, а прибежали с Тосей на митинг под открытым небом. Багинский говорил все громче и громче:
— Красное знамя пропитано кровью трудящихся. Оно озарено пожаром великой борьбы. На древке красного знамени горит красная пятиконечная звезда. Она бросает лучи трудящимся пяти частей света! Если нападут враги, наша копница грянет шипами подков в брюхо империализма, и высоко над землей будут развеваться красные знамена! Если нападут на нас буржуи, трудящиеся всего мира отточат шашки и придут нам на помощь. Мы не забияки, не соколы-разбойнички из Брянских лесов, но за правду, за рабоче-крестьянскую правду, мы постоим.
И неожиданно для всех Багинский запел:
Марш вперед, Европа ждет
Красные бригады.
Звук лихой зовет нас в бой,
Буржуям нет пощады!
Все пели вместе с ним.
Еще не смолкли последние слова песни, как Олеся, во всю силу своего голоса, радостно произнесла:
— Ребята! Отныне наш детский дом будет называться: детдом имени Красной кавалерии!
Что тут было!
Багинский снова поднялся. Все стихло.
— Скажите мне, хлопцы, у кого из вас отцы и братья отдали свою жизнь за советскую власть? — спросил он негромко.
Словно невиданная птица вспорхнула и прошумела крыльями. Кто пригорюнился, кто руку поднял...
Я вспомнила прощальную речь комиссара над братской могилой и как после похорон женщина сказала, что я не сирота, а полсирота. У меня мать, родные... А сколько здесь круглых сирот!
Меня окликнул взволнованный девчачий голос. Я повернула голову. Неужели Ада? Она. Когда я позвала ее от имени Олеси, она не знала, сможет ли прийти, а теперь притулилась у стенки и удивленно смотрит кругом.
Васька Белокопыт хрипло закричал, ткнув рукой сидевшего с ним рядом мальчишку:
— У него белые отца замучили, выпалили ему на груди звезду. Олег сам видел, как палили отца.
Багинский по проходу между скамейками подошел к мальчишке. Тот и не поднял глаз. Бледный, без кровинки в лице.
— Ты что, тоже в стрекачах был? — ласково спросил Багинский.
— Ни,— чуть слышно ответил белобрысый и отодвинулся.
Ружпульпарк быстро подошел к Олесе, что-то ей сказал и снова вернулся к Олегу. Не прошло и двух-трех минут, как Василь Игнатович передал Багинскому белую рубаху.
— Лезь в рукава! Давай помогу тебе, — говорил Багинский, одевая Олега.
Олег сбросил отрепья из мешка и протянул худенькие руки. Рубаха была слишком велика и длинна, рукава болтались. Багинский подвернул их левой рукой и одобрительно хлопнул Олега по затылку.
— Блондины всегда стеснительные. Ну, что ж вам еще рассказать? — спросил Андрей Васильевич и сел между Олегом и Васькой.
Ребята дружно переставили скамейки, расположились полукругом.
— Враги, будь это в их власти, уничтожили бы нас всех вместе и в одиночку, — говорил Ружпульпарк. — Мы за вас дрались. Вы, ребята, плоть и кровь наша!
Говорил он самые обыкновенные слова, но шли они изнутри, где, наверное, нет-нет да кольнет его острый осколок. Пристальным взглядом посмотрел он на Белокопыта и продолжал:
— От родной своей власти вздумали бежать, с ворами спутались, совесть мараете. А кому это на радость, кому?
— Харч плохой. Ни ситра, ни сластей, ни холодца, — прохрипел Белокопыт. Он взмахнул рукой, боясь, что Багинский вдруг перебьет его. — Да и на вокзале несладко, другой раз и булку не подстрельнешь, в брюхе пусто, в желудке «ломайло». Санитары в изолятор тащат. — Васька вздохнул и замолчал, довольный, что высказался.
Во время спектакля он сидел рядом с Андреем Васильевичем и больше смотрел на него, чем на сцену.
Багинский громко смеялся, когда бумажный черт, похожий на Ваську, первым полез в форточку...
Я посматривала в сторону, где сидела Ада. Чтоб лучше видеть все, что происходит на сцене, она привстала... Кончился дивертисмент, а ее и след простыл. Я хотела громко ее позвать, но в это время Олеся пригласила всех к ужину. Я ринулась вслед за Андреем Васильевичем, рассудив, что Ада никуда не денется, а потом и забыла о ней.
Только Багинский уселся за стол рядом с Белокопы-том, как все начали просить:
— Дядя Андрей, расскажите нам еще что-нибудь!
И он рассказал, как мальчишкой работал в Киеве учеником в типографии; не только сгибался над свинцовой кассой, но и носил взрослым водку, а часто в благодарность получал от них затрещины и оплеухи.
Заслушалась я. Подошел Василь Игнатович, стоявший в стороне, и сказал мне:
— Что рот открыла, смотри, галка влетит! Пронял-то как всех!
Он посмотрел на Багинского и совсем тихо, будто по секрету, добавил:
— Не проколов шилом, щетинки не просунешь! Андрей Васильевич продолжал:
— Началась революция. Сменил я шрифт на патроны, а типографскую машину — на орудия.
Он похвалил угощение и вспомнил, как однажды на фронте завтракал, обедал и ужинал.
— Дело было под Кромами. Дрались мы с озверелыми дроздовцами. Занял я хату в селе, а оттуда только что смазал пятки и как рак попятился назад белый полковник фон Манштейн. Полковнику завтрак приготовили, а ему и дотронуться до еды не пришлось. Нам его завтрак достался.
Через несколько часов из этого села, где мы сытно позавтракали, снова выбили нас дроздовцы и фон Манштейну достался наш обед. К вечеру мы опять захватили село, а на столе фон Манштейн оставил мне записку: «Обед ваш отведал. При таком питании далеко не уедете. Завидую тебе, безрукая шельма, что будешь есть мой ужин». Ошибся полковник, хоть и питались не сытно, а уехали далеко!
— А я мороженое меньше десяти порций не уважаю, — в свою очередь начал рассказывать Белокопыт и с сияющим лицом вытащил из-за пазухи кружок колбасы. — Угощаю! Нажмем!
Багинский задумался. Чтобы не обидеть Ваську Бело-копыта, попробовал колбасу. Васька обрадовался и сказал:
— Я думал, что и ты меня отпевать начнешь. Но колбаса-то реквизированная!
Я увидела Шмеля. Он раньше других отужинал и вышел из-за стола. Обе ноги его были в рваной обувке, но он совсем не хромал.
— Как нога, не болит? — спросила я.
Шмель лукаво подмигнул и тут же отбил чечетку.
— На своих на двоих и уехать можно! Не убегу, — сказал он совсем по-другому и добавил: — Если жратва будет. Нога у меня завернутая как в люльке лежала. Не просишь, а сами подают.
Тут он подогнул ногу и сделал страдальческое лицо.
— Угощение понравилось? — спросила я его.
— Досыта! — причмокнул Шмель. — Суп потафе, котлеты гаше! Руки в брюки, нос в карман! — крикнул он. Потом показал рукой на Багинского и сказал мне: — Нам сочувствует!
Багииского окружили со всех сторон, трогали за орден Красного Знамени, хватали за кожаный ремень, начали постукивать по искусственной руке и виснуть на левой.
— Ну, ну, пролетарии всех стран! Не оторвите мою единственную! Прошу пощады! — шутя взмолился Андрей Васильевич.
Ужин кончился.
Вошла Олеся. Спокойно и строго она объявила, что каждый, кто хочет остаться жить в детдоме, первым делом должен пойти в баню.
Олеся очень хотела скрыть свое волнение, но ее выдал дрогнувший голос:
— Баню давно затопили. Будете спать на чистых простынях...
— А как же Олег? — вскочил Белокопыт и тревожно оглянулся.
— Всех, кто пришел впервые, примем через изолятор, — объяснила Олеся. — Олег уже на медосмотре. Как же ты его недоглядел?
— В баню! — решительно крикнул Белокопыт и, торопясь, на ходу начал стягивать с себя рваную, давно потерявшую свой цвет гимнастерку.
В дверях он столкнулся с Курипочкой. Она с испугом посторонилась и, вытянувшись, сделала такую мину, будто чем-то поперхнулась. Вот-вот вылезет из юбки...
Из бани ребята выходили освеженные, с влажными волосами. Даже носы были мокрые. Будто смыли свинцовый, пыльный налет, синяки, царапины и кровоподтеки.
Васька Белокопыт выпятил грудь и длинным рукавом нательной рубахи из сурового полотна, отдуваясь, обтирал капли пота со лба.
«Остался Васенька! С легким паром! Может быть, ты никогда больше не полезешь в бочку. Будешь показывать свои номера только в дивертисменте. Будешь служить в Красной Армии. Получишь винтовку, саблю, коня! Начало сделано. Доброе начало! Тьфу-тьфу, лишь бы не сглазить», — неслось в моей голове.
Шмель сиял чистотой. Глаза его смотрели весело.
— Нас водой не разольешь. Будем вместе воду в ступе толочь! — свистнул он и затанцевал на одной ноге, схватив Белокопыта за рукав.
Багинского ждали во всех спальнях «красные кавалеристы».
— Сюда! Сюда!
Когда он входил, его атаковали мальчишки, оттесняли от двери, просили не уходить и долго не отпускали.
Ружпульпарку не хватило бы и десяти рук, а он своей единственной то гладил самых маленьких по голове, то прижимал их к груди.
— Хоть одним глазом взглянуть бы мне на вас через несколько лет, увидеть, какие из вас вырастут красные казаки! — говорил ребятам Багинский.
Курипочка всюду следовала за ним. Она мало-помалу совсем изменилась, будто тоже окатилась водой. Переменила какое-то свое мнение и всячески старалась попасть-
ся на глаза Багинскому. Она даже широко улыбалась ему, обнажая при этом удивительно прямые и ровные зубы.
А Василь Игнатович нервно ходил по коридору, размахивая палкой. Вышел Багинский, и завхоз накинулся на него:
— Хватит, хватит. Стреляный человек, а расчувствовался, будто деточек никогда не видел.
Он ворчал точь-в-точь как бабка Наталка:
— Дома-то заждались!
Все звено «Мы — кузнецы» решило проводить Багин-ского. Пошел с нами и быстро успокоившийся Василь Игнатович. Багинский — Спартак, а мы его верные гладиаторы.
Осеннее ноябрьское небо от края до края развернуло перед нами свои звезды. Бело-голубые, желтые, какие-то холодно-серебристые, невероятно далекие, они светили и мерцали, чуть задергивались быстро бегущими легкими тучками и снова светились, как шахтерские лампочки в темных забоях, как искры, вылетавшие из-под молота кузнеца.
Кто-то сказал, что, должно быть, и Спартак заглядывался на звезды. Ведь они были такими же, как нынче, и две тысячи лет тому назад. Теперь сам Спартак как звезда.
Мы не искали в небе ни Водолея, ни Геркулеса и Скорпиона, а просто любовались далекими звездами. Каждый думал свое.
— Как вы думаете, товарищ Багинский, Владимир Ильич любит на звезды смотреть? — спросил Пахман.
— Конечно, любит, — сразу ответил Андрей Васильевич. Может быть, сейчас и Владимир Ильич смотрит в небо,
густо усыпанное звездами...
И я выбрала одну звезду. Она то ярко вспыхивала, то начинала дрожать, вот-вот погаснет. Тускнеет, но не гаснет, а вновь разгорается ярко-ярко! Я смотрела на нее, и казалось, что от звезды ко мне тянется тонкая-тонкая светящаяся нить.
Проводили Багинского до самого дома.
Дверь открылась. Мы увидели невысокого мальчика в военной гимнастерке и темных очках.
— Как долго ты сегодня, папа.
Он посторонился и стал как-то боком, чтобы пропустить отца. Развел руки, будто трогал воздух.
«Странный мальчик», — подумала я. И тут поняла: мальчик был слеп.
Багинский прижал его к себе левой рукой:
— Опять ждал!
В комнате у стены стояли одна за другой две койки, застланные суконными одеялами. Над одной койкой висела сабля.
Прощаясь, Багинский сказал: — Безрукий и слепой, нас пара.
После того как проводили Багинского, Василь Игнатович долго шел молча. Потом остановился и сказал:
— Сына Багинского изувечили гайдамаки: в отместку за отца мальчику выжгли глаза.
...Мать отперла мне и, засветив огонь, сказала:
— У нас Ада была. Прибежала сама не своя. Очень ей герой, что в детдоме выступал, понравился. Я ей: «Садись посиди», а она и не присела; подошла к кровати, глаз с фотографии нашего отца не сводит. Не хотела уходить, да Котю забоялась. Так и сказала: «Я еще приду!»
Я слушала маму, а сама думала о Багинском, о его сыне...
Наши ребята должны были собраться у Ефименко, а оттуда отправиться в центр города вместе с комсомольцами встречать Новый год.
Василь Игнатовича никто не прикреплял к звену «Мы — кузнецы», но как-то само собой получалось, что он уже давно был в курсе всех наших дел.
После того как Павел Чеботарь покинул Харьков, став добровольцем — червонным казаком, — другой «прикрепленный» мог назвать себя «добровольным Спартаком».
Собраний не посещал, а был с нами в большой дружбе. Что-то не ладится, рассоримся, он тут как тут! Скажет: «Еле догнал!» — и смотрит будто с хитринкой. А не хитрил и не поучал, только подтолкнет и тащит за собой. Он обличал пороки старого мира и увлекался всем новым, — добрый, честный, но суматошный человек.
Ко всем революционным праздникам, ко всем торже-
ственным событиям нашей спартаковской жизни он тщательно брился и подстригал усы...
Василь Игнатович только и говорил, как бы «хоть трошки» стать ему моложе. Он сбрасывал лета свои, спешил, раскрывал шею навстречу ветру. На носу очки, седые волосы жидковаты, а он молодел. Не любил теплых комнат, открывал окна, подшучивал над своей же одышкой и не находил себе места, если Тося куда запропастится.
Всех малышей он считал смышленышами, подростков — взрослыми. А дочь свою, богомольную Верку, — «тяжело здоровой».
Письмо с новогодним поздравлением звену «Мы — кузнецы» Павел Чеботарь прислал на адрес «кузнеца-ще-тинщика». Он писал, что получил винтовку и шашку, что старые казаки смеялись, когда впервые сел он на коня, чмокал и «тпру» кричал.
В своем ответе Чеботарю мы написали, что готовим подарки червонным казакам: полотенца, книги, карандаши, постельные принадлежности и темляки.
Василь Игнатович, от имени детского дома «Красный кавалерист», грозил засыпать конный корпус всевозможными щетками, если только кавалеристы не пожалеют конских хвостов.
Мы просили Павлика прислать нам фотографию в полном боевом вооружении. Интересно было посмотреть, как гарцует на коне наш прикрепленный.
...В тот вечер я не ждала Аду, должно быть, и не думала о ней, а она пришла нас поздравить; сказала, что Клепцовы будут со своими друзьями встречать Новый год где-то в городе, а она свободна, как никогда; «родители» вернутся не скоро.
— Пойдем с нами комсомольский Новый год встречать! — предложила я Аде.
— А мне разве можно?
— Конечно. Ты будешь неорганизованная, неорганизованных надо привлекать, — разразилась я речью и смутилась, ведь не на собрании же я, а вдвоем с подругой.
Мы перешли улицу и столкнулись лицом к лицу с Ильей Пахманом. Он и зимой ходил в своей неизменной черной курточке. Согревал его только красный шарф, обмотанный вокруг шеи.
Илья насупился, когда увидел рядом со мной Аду, в новом белом капоре, с широкими атласными завязками. Ада не завязала их бантом, и они трепетали на ветру, будто хотели сорвать и унести капор.
Я оставила Илью и Аду у двери, а сама заглянула к Ефименко. Василь Игнатович, поправляя сбившуюся на затылок кепку, докладывал бабке Наталке:
— Пойду со Спартаками помарширую! Василь Игнатович на ходу шепнул мне:
— Как бы бабка не увязалась. — Он озорно улыбнулся и уже на улице совсем лукаво, но уже громко добавил: — С Нового года всех стариков и старух — в воду!
Палку свою он оставил, так как в руке крепко сжимал «сюрприз»: высокий шест — факел.
Харьков засиял огнями. Луч прожектора рассек небо.
- Богов вызываем! — воскликнул Василь Игнатович. Шествие началось. Впереди, цепью, взявшись за руки, шли комсомольцы. Высоко поднятые на длинных шестах кроваво-красные языки факелов осветили знамена.
Комсомольцы-железнодорожники вывели на комсомольский карнавал целый «зоологический сад» нэпманов. Они шествовали важно, как надутые индюки, в котелках и цилиндрах, то и дело поглаживали большие животы, жестикулировали и выкрикивали:
— Есть сахарин! Сахарин! Беру сахар! Купую, пере-купую. Нэпаем помаленьку! Беру, даю червонцы! Плачу дороже всех!..
Совершали сделки и тут же дубасили друг друга.
— Они, они, точь-в-точь! Жалко, Родиона Ефимовича не изобразили: зубы редкие, хорек, а все богатеет: жрет, жрет, а не полнеет, — сказал Василь Игнатович и подтолкнул Аду.
— Это я про папашу твоего!
— При чем тут Ада? — набросилась на отца Тося. — Все «приятное» ты ему скажи, а не Аде.
— И скажу!
В это время всамделишные торгаши-нэпманы в бобровых и каракулевых воротниках медленно, надувшись от важности или сторонясь, как бы их не опалил огонь комсомольских факелов, направлялись в рестораны встречать Новый год. Вместе с ними и их жены, в саках и манто.
Все больше и больше огней. Их кружил и вздымал ветер.
Под лучом прожектора заблестели окна домов и балконы. Всюду стояли люди. Луч спустился еще ниже, осветив море человеческих голов.
Хлебопеки несли крендель-звезду. Им кричали:
— Эмблемы свои не съешьте!
Проходили текстильщицы. Они несли белый саван для буржуазии.
Шли суконницы в красных шапочках.
— Да здравствуют красноголовушки! — что есть силы крикнул Василь Игнатович.
Ада на все смотрела молча. Время от времени она как-то тревожно озиралась.
Улицы и площади шумели как прибой. Давно знакомые здания, охваченные отсветом огней, казались сказочными дворцами.
Мы заранее пришли на площадь Тевелева, чтобы лучше все видеть. Перед зданием ВУЦИКа, на высоком помосте, должна быть разыграна новогодняя пролетарская мистерия.
Один за другим на помост поднимались ряженые. В зареве факелов попы трясли своими козьими бородками. Вместе с ними плясали нэпачи и отставные министры.
На помост вбежали рабочие с молотами в руках. С нэпманских голов летели котелки и цилиндры... Буржуй путался в фалдах фрака.
Хор пел отходную врагам революции. Метался нэпман с сахарином. Из рук попа выпал крест. Молот опустился на нэпманские головы. Повержены нэпманы, попы и фабриканты. Набат возвестил конец буржуазии и победу пролетариата.
Грянул «Интернационал». Вспыхнули ракеты. Скрещивались лучи прожекторов.
Кончилась мистерия.
Ровно в полночь над Харьковом, с горки «Наука пролетариата» в Университетском саду, раздались новогодние залпы.
С треском взлетали ракеты, рассыпая в черном небе золотисто-красные искры.
Наступил 1923-й!
Мы поздравляли друг друга. Пахман пришел в такой раж, что начал говорить стихами и впопыхах даже поздравил притихшую и изумленную Аду:
— С Новым годом, барышня! Кто-то крикнул:
— Начнем новый год с того, что испортим настроение нэпманам!
Василь Игнатович подхватил:
— Детвора, за мной!
Мы еле поспевали за ним. А он, размахивая шестом факела, кричал:
— Пойдем чокнемся!
По дороге, заметив, что Тося о чем-то говорит с Адой, я оставила их, а сама подбежала к Илье:
— Ада ведь дочь не родная. Гладиаторы давно бы ее защитили.
— Защитим! — крикнул Илья.
У ярко освещенных витрин харьковских ресторанов шли митинги. Комсомольцы решили напомнить нэпманам, что «не все коту масленица, придет и великий пост».
У ресторана «Не рыдай» оратор забрался на пролетку извозчика:
— Ты еще зарыдаешь и заплачешь, нэпман, горькими слезами!
— Нэп-ман, за-ры-дай! — вторили оратору комсомольцы.
— Нэп, мы тебя породили, мы тебя и убьем!
Не по душе нам были надменные нэпачи. Как это несправедливо: одни обжираются, а другие живот подтягивают. Среди наших родных не было толстобрюхих и толстомордых. В магазинах и на рынке было всего полно, но румянец не заливал щеки наших матерей.
Частные хозяйчики увольняли рабочих парней — комсомольцев, давали работу только «благонадежным», своим родственникам и поднэпманам; всячески старались обойти Биржу труда.
Василь Игнатович довел нас до подъезда ресторана «Дикая кошка». Из дверей доносилось мурлыканье салонного оркестра. Какие-то люди посторонились, и мы, в шапках и верхней одежде, шумно ввалились в ярко освещенный зал.
— С Новым годом, черная биржа! — крикнул Василь Игнатович.
Все мы продвинулись ближе к оркестру. Музыканты смолкли. За столиками перестали жевать. Один вид незажженного факела не на шутку испугал владельца ресторана:
— Только не зажигайте! Унесите этот фонарь! Я сейчас же вызову пожарную команду! Будете отвечать за убытки!
— Тише вы там! — сказал ему Ефименко. Все мы хором закричали:
Поглядите, как нелепо расплылася рожа нэпа!
За столиком сидел особенно грузный нэпман «с расплывшейся рожей». Он перестал жевать и, выставив вперед ногу в лакированном ботинке, уставился на нас своими маленькими, заплывшими глазами.
Рядом с ним восседала женщина в платье с длинным хвостом. Трудно было разглядеть ее лицо: на голову глубоко надвинута шляпка, похожая на опрокинутый горшок, а от шляпки на глаза спускалась вуалька.
Я огляделась и увидела, что кругом много таких вуалек. Невольно подумала: «Стыдно им, вот и прячут глаза — ведь они паразитки».
Ада схватила меня за руку. Я вздрогнула от неожиданности: за столиком, у самой эстрады, в компании разодетых людей, я увидела домовладелку Екатерину Семеновну, в черном декольтированном платье со шлейфом. И Родя был в полном параде.
Василь Игнатович подошел к столику у эстрады, подчеркнуто поклонился.
Родя радостно замигал:
— Прошу, прошу, по-добрососедски. Угощаю! — Он дал знак рукой официанту, один бокал на высокой ножке пододвинул ближе к Василь Игнатовичу, другой взял в свою руку.
Стол был заставлен вкусной едой.
Коля Черепков нежно смотрел на розовую ветчину, потом перевел взгляд на маленькие пирожки и крохотные огурчики.
Василь Игнатович отодвинул бокал и пристально, в упор, посмотрел на Котю:
— Давно не виделись, дикая кошка!
Котя откинулась на спинку стула,
— А ты, торгаш, котов продашь? — спросил Василь Игнатович нашего хозяина.
Тося ущипнула меня:
— Ай да батька! — И тут же громко шепнула: — Духами как воняет, ужас!
Родя ничего не ответил Василь Игнатовичу, а его супруга вдруг всплеснула руками, побледнела, вскочила, будто напоролась на гвоздик, и снова опустилась на стул:
— Ада! Здесь, с ними! Что же это такое? — задыхаясь, кричала она.
Тогда на весь зал раздался визгливый голос Роди:
— Ада! Подойди к маме! Поздравь с Новым годом! Все будет в аккурате, не волнуйся, — сказал он, наклоняясь к супруге.
Ада будто не слышала слов Роди. Но все услыхали отчетливый, повелительный шепот Коти:
— Адель, сейчас же оставь их, подойди сюда. Что ты там застряла?!
Василь Игнатович, покачав головой, взглянул на Клепцова и сразу же перевел взгляд на оцепеневшую Аду.
— Пошли! — сказал он резко, взмахнув рукой.
В это время, опираясь руками на стол, опрокинув тарелку с нарезанными ломтями сыра с дырочками, поднялся и грузный, толстомордый нэпман. Накрахмаленная салфетка сползла с его груди.
Он шутливо погрозил Аде пальцем:
— Какая девчурка! Чудесные глазки! Симпат-тичная! Ягодка! Качать Клепцова за такую дочь!
Потирая руки, он незаметно кивнул головой, и, как по команде, разгулявшиеся нэпманы задвигали стульями, повскакали со своих мест.
Родя снисходительно сопротивлялся.
— Ну какая она красавица, как все, — только успел он пролепетать, как его с жаром подхватили и уже с хохотом и криком дружно подбрасывали вверх.
— С Новым годом, Родион Ефимович!
— Подрастет красавица, сватов пришлю!
— Еще раз, взяли! — неслось со всех сторон.
Вскинул ножками Родион Ефимович, замахал ладошками, пытаясь уцепиться хотя бы за воздух. Сразу сбился напомаженный пробор. А тут еще постарались музыканты: к общему удовольствию грянули туш!
На лбу у Роди выступили капельки пота. Карманные часы повисли на цепочке, выделывая вместе со своим владельцем неожиданное сальто-мортале. Из карманов пиджака и жилетки посыпалась на пол расческа, звонко ударились, раскатившись по полу, несколько золотых николаевских монет.
Василь Игнатович зорко наблюдал за происходящим. Ему стало жарко в своем обвисшем пальто, он распахнул его полы и расстегнул ворот толстовки.
Факел в его руке как копье Спартака. Вот-вот наступит рабочей ногой и пронзит гидру капитализма.
Котя побагровела от злости. Зрачки у нее расширились.
Ада молча, потупившись, смотрела в пол. Я чувствовала, как дрожит ее рука.
Покачали на руках Родю и опустили. Первым делом он стал поправлять сбившийся пробор, почтительно улыбаясь толстяку.
— Девонька, подойди к папочке, — произнес тот, наливая вино в бокал. Он был в отличном расположении духа и готовился произнести тост.
Ада подняла голову, обвела своими большими, испуганными глазами весь зал «Дикой кошки», переполненный гогочущими людьми, опутанными разноцветным серпантином.
— Родионовна! — кричал какой-то нэпман. Звякали ложки, скрежетали ножи...
Ада гневно сдвинула брови; глаза ее лихорадочно горели; вырвала свою руку из моей и с криком: «Я не его дочь!» — побежала к двери.

Мы снова на Сумской, освещенной огнями факелов.
Ада бежала по тротуару не переводя дух. Мы ринулись за ней.
— Да подожди ты, чертенок! Вырвалась птичка из клетки, — громко крикнул Василь Игнатович. — Вспыхнула как огонь! Молодчина!
Ада остановилась. Волосы выбились из-под капора. Пальто было нарядное, теплое. Ей трудно было дышать, трудно говорить. Василь Игнатович подошел к Аде:
— Подожди, сейчас каганец засветим.
Он зажег факел и передал Рогачу. Тот высоко поднял факел над головой. При свете неровного пламени я увидела, как блестят глаза Ады.
Пахман подбежал к ней, чуть не сбил с ног. Ему не терпелось что-то сказать:
— Какие они противные! Так им и надо, чтоб нос не задирали. Ты станешь спартаковкой. Мы все дадим тебе рекомендацию. Согласна?
— Да, — ответила Ада.
— Живи у нас,— сказал ей Колька Черепок.— Отцу давно все твердят, чтоб он няньку нанял.
— А еще Спартак! И партийного отца позоришь! — крикнул Рогачев, с досадой взмахнув факелом. — Нянька ему понадобилась!
— Будем жить коммуной, без эксплуатации,— поправился Черепок.
— То-то!
— «То-то»! — неожиданно передразнил Колька. — От какой ветчины отказались. Нэпманских денег пожалели.
Рогачев постучал своим пальцем Кольку по лбу.
— У нас койка свободная, пусть Ада у нас живет, — попросила Тося отца.
— И у нас койка свободная, — сказала я Аде.
— Свободная, — сказал Василь Игнатович, посмотрев на меня. — Если вы девчонку приютите, они вас со света сживут, в квартире откажут. Аида к нам!
Мы несли факел поочередно. Дошла очередь и до Ады. Шли по открытому месту, не защищенному домами; ветер задувал пламя. Как-то не хотелось, чтобы факел потух в руках у Ады.
— Ты потише, потише, вот так, — тревожился Василь Игнатович.
Ада наклонила факел вперед и шла, держа его двумя руками. Пламя искрилось. Яркий свет обгонял Аду. Еще в сенях Василь Игнатович громко крикнул:
— Мать, встречай гостей!
Бабка Наталка вылезла из-под своего теплого лоскутного одеяла.
— С Новым годом, бабушка! — закричали мы.
Бабка спросонья никак не могла попасть в свои веревочные туфли. Она стояла босая на половике и всех нас разглядывала, будто видела впервые.
— Где вас, полуночники, носит? Не даете спать людям ни в старом, ни в новом году!
— Бабушка, Ада от Клепцовых ушла. Она у нас жить будет! — сказала Тося.
Бабка Наталка сразу проснулась.
— Вот это ладно! Правильно решила девка, — сказала она и начала взбивать подушки. — Что дрожишь? Я тебя липовым чаем напою. Да ты не бойся, не бойся, мы тебя в обиду не дадим. Так и скажу ему.
— Скажи, скажи, — засмеялся Василь Игнатович. Бабка постелила постель да как закричит:
— Чего уставились?! Людям спать надо. А ну — геть по домам!
Мальчишки, прощаясь с Адой, крепко жали ей руку, а я сказала:
— Завтра чуть свет прибегу.
Я и забыла, что новый год уже давно начался: завтра уже наступило сегодня.
Проснулась будто от толчка. Этим толчком были мысли об Аде.
Только хотела поднять голову, как услышала громкий разговор. Выше натянула одеяло и чуть приоткрыла глаза.
Котя сидела на табуретке в том же черном платье со шлейфом. В «Дикой кошке» она выглядела как осанистая, надменная дама. А сейчас, при дневном свете, была хмурой и морщинистой.
Рядом с ней стоял Родя. Уже успел набриолиниться. Как всегда, волосок к волоску, будто и не было полетов к люстре.
Котя говорила. Родя молчал.
— Я давно замечала, что Адочка норовит улизнуть к вам. Не могли же мы только из-за этого отказать вам в квартире. Я, Мария Ивановна, вам всегда добра желала, теперь помогите мне.
Первые и последние слова некоторых фраз Котя произносила нараспев, будто подчеркивала их протяжным голосом:
— Чужого своим не назовешь. Но я к Аде относилась как к своей, мы ее воспитывали, как дочь родную. Раз она дочь — должна повиноваться. Я хотела, чтобы она стала хорошей хозяйкой.
Котя приостановилась и продолжала:
— Я понимаю, этот Ефименко насулил ей всяких благ. Что можно ждать от бродяги? Выгнал родную дочь!
А младшая, я сама видела, стоит у окна и пьет из горлышка чайника! Вы извините, но у нас в доме пьют из стаканов. Но я не об этом! — Котя досадливо поморщилась, боясь, что мама начнет ей возражать. — У вас же, Мария Ивановна, материнское сердце,— продолжала она. — Мы столько истратили на содержание девочки, а теперь нас обокрали! Родион Ефимович так заботился о ней, так привык. Видно, ей нужны не родители, а политграмота! — произнесла она с озлоблением.
— Можно? — вступил в разговор Родя.
Котя прижала к лицу маленький кружевной платочек.
Родя говорил очень тихо, почти шепотом. Он назвал Аду умной. Котя не удержалась и, подхватив это слово, раздраженно повторила: «Умная, очень умная». И тут же, многозначительно посмотрев на маму, произнесла: «Неблагодарная».
— Она почему-то стыдится того, что я занимаюсь торговлей, — продолжал Родя. — Но можно же договориться! Я хотел Аду вывести в люди. А так она может остаться без средств к существованию. Не захотела жить с нами под одной кровлей. А не подумала о том, что может лишиться наследства. Я понимаю, классовая борьба! Пусть борется, но можно же пойти на мировую. Пусть она будет там, будет и здесь. Там подруги, товарищи. Ей этого не хватало. «Ой, люли, аи, люли!» — Родя громко вздохнул. — Помогите, Мария Ивановна. Другой дочки у нас не будет, — сказал он и с умилением посмотрел на Котю.
Котя поднялась, зашуршав платьем. Мать ничего не обещала, а Котя, пытаясь улыбнуться, несколько раз подряд произнесла:
— Ну, спа-асибо, спа-асибо! Котя и Родя ушли.
— Скучно ей, от скуки, а не от любви взяла девочку. Хотела без любви ее привязать. Дала бы ей ума, да своего мало. А этот — хитер! Как это у него получается: и так и сяк. Чует, куда ветер дует, — сказала мама.
Я повязалась платком и побежала к Ефименко.
В воздухе кружились снежинки.
Кто-то приник к окну. Мне и стучать не пришлось.
— Пирог не испекла, а порог поскребла. Бело-то как! — сказала бабка Наталка и впустила меня.
— Она у Олеси. Позвала ее, посекретничали вдвоем, а потом Олеся ушла к себе на пустырь. Говорит, «пусть девка выспится».
Ада не спала; она услыхала наш разговор и выскочила мне навстречу. Я бросилась к ней на шею. Мы крепко обнялись. Дышали в лицо друг другу. Держась за руки, улыбались и плакали, плакали и улыбались.
Я сказала Аде, что новый год начался и она тоже — новая, другая!
Открылась дверь, и Олеся, не входя в комнату, начала стряхивать с полушубка и шапки-ушанки тающие крупинки. Вся она была в лад со свежим снежком. Скинула полушубок и плавным движением притянула Аду к себе.
— Решено. У тебя новые отец-мать. Сегодня же будешь зачислена в детдом «Красный кавалерист», — сказала Олеся, чуть склонила набок голову и улыбнулась.
Снова открылась дверь. Первым вошел Васька Бело-копыт. За ним Шмель. Приятели были в одинаковых серых пальтишках, застегнутых на все пуговицы. Раскраснелись от морозного воздуха.
— Багаж будет? — деловито спросил Белокопыт. Шмель что-то прятал у себя за спиной. Я думала, что он запрыгает на одной ноге, а он поднял руку и торжественно потряс воздух школьным колокольчиком.
— Граждане, поторапливайтесь, занимайте места! Поезд отправляется!
У меня защемило в груди. Звон школьного колокольчика напомнил мне веселые переменки, конец занятиям, когда мы хватали ранцы и бежали с Левко вперегонки, а потом шли рядом. Засверлила и мысль: «Слишком затянулась моя большая переменка. Когда же примут в телеграфную школу? Не доросла. Как бы .не переросла!»
Снова зазвонил Шмель. Даже стекла в окнах задребезжали. Показалась бабка Наталка. Она всполошилась.
— Бабуня тоже собралась в кавалерию? — невозмутимо спросил Белокопыт.
— Я сейчас, сейчас! — будто всерьез подхватила бабка. — Только пирог уложу!
— Смотри, бабушка, стрекача не задай! — весело крикнул Шмель.
И снова на весь особняк раздался звонок — третий звонок!
Ребята несколько раз видели Багинского с сыном, когда они приходили в Карповский сад.
Мы не знали имя сына Ружпульпарка до «переименования». Совсем недавно в честь борца за свободу, отважного французского революционера, он был назван Маратом.
Это имя ему подходило.
В темных очках, худенький, выглядел серьезным, строгим, сосредоточенным, а Люба Одоленко говорила, что он любит бегать и непоседлив, как все мальчишки.
На улице он шел рядом с отцом, не держась за его руку, нащупывал дорогу палочкой.
Люба Одоленко приходила в сад с книжкой. Она шла в самый пустынный уголок, где разрослись кусты шиповника.
Даже когда играли в прятки, мы избегали прятаться в колючих зарослях.
Люба читала, а потом закладывала веточкой страницу, следила за полетом птиц, ложилась на траву, смотрела в глубокое синее небо и начинала петь все, что приходило ей в голову.
Она подскочила, когда откуда-то из-за кустов раздался густой голос:
— Браво, певунья!
Это был Багинский. Он сказал, что учит сына узнавать птиц по голосам и пению, а она не щегол, не снегирь, так пусть назовет себя.
— Люба!
Так они познакомились и подружились. Марат расспрашивал отца:
— Какая она, Люба? Похожа на Аню или на Люсю? — Этих девочек он запомнил, когда был зрячим.
— Как Люся, только носик вздернутый,— тут же, при Любе, объяснил Багинский.
Они долго разбирались в птичьих голосах. Узнавали, кто это вызванивает в крошечные колокольцы, дудит во флейты, пиликает на маленьких скрипочках.
На разные лады гомонили и высвистывали птицы, поселившиеся в саду: бойкие зяблики, нарядные щеглы, черные дрозды и горихвостки с огненными красными хвостами.
И Багинский подсвистывал, и Любу просил спеть птичьи песни.
Люба смущалась, а потом громко запела, как зяблик, залилась, как серая Черноголовка...
Марат не отходил от нее и все просил и просил, чтобы она пела, подражая всем птицам Карповского сада.
Перед тем как уйти из сада, Багинский затеял игру: цурки не цурки, городки не городки, а игра. Надо было попасть камешком в начертанный на дорожке квадрат.
Кидала Люба, кидал Марат, кидал и Андрей Васильевич.
Марат отбегал подальше, и, когда он кидал, Люба, стоя над квадратом, хлопала в ладоши. Хлопок! И Марат, хмуря брови, прислушивался. Еще хлопок! Марат бросал камушек, целясь в Любин хлопок.
Все мы стали чаще бывать в Карповском саду.
Нам очень хотелось подружиться с Маратом, но сын с отцом больше не появлялись.
Люба узнала, что Андрей Васильевич лежит в больнице — должны извлечь беспокойный осколок. Марат обещал отцу не скучать.
Люба просила нас принести Марату корм для его канареек и синиц.
Накопали мы с Тосей червячков, наловили мошек. Бабка Наталка сберегала муравьиные яйца: она насыпала нам целый кулек.
— Пусть птицы клюют. Ни прясть, ни шить не умеют, а хлеб даром не едят.
Дверь нам открыл незнакомый военный.
Мы вошли в просторную, мало заставленную комнату. Марат, босой, стоял спиной к нам посредине комнаты с веником в руке. Он обернулся. Тося вскрикнула. Марат стоял без очков. Вместо глаз — черные впадины. Тося сразу же подбежала к клеткам против окна, будто поразили ее зеленые, шафрановые канарейки и зелено-желтые синицы:
— Какие птички!
Я уткнулась в принесенный нами пакет.
Марат подошел к этажерке и протянул руку за очками.
Он продолжал мести, проверяя босой ногой, не оставил ли где сор. Казалось, что он смотрит пристально и все видит. Блестели темные стекла очков.
Мы выложили свои гостинцы и сказали Марату, что пришли от Любы. Марат обрадовался.
Птицы же, как только мы вошли, замолкли, испугались, бросились на стенки клеток.
Марат подошел к Тосе и спросил:
— Ты не кудрявая?
Тося кивнула головой, но, спохватившись, произнесла громко:
— С кудрями!
— У тебя пышные волосы, они принимают тебя за кошку, — вмешался в разговор военный и протянул Тосе кусок марли.
— Повяжись вместо платочка!
Марату хотелось, чтобы снова запели канарейки. Он подошел к клетке, стоявшей отдельно, на столике, и познакомил нас с зеленоголовым кенарем.
— Это учитель, Яша. Давай, давай, Яша! — просил Марат. — Яша, проса дам! Морковки натру!
Яша молчал. Потом перестал упрямиться, вытянул шею, открыл клюв и, глядя на Марата, приветливо «зажурчал».
Вслед за «учителем» загомонили и «ученики», высвистывая на все лады всевозможные голосистые трели.
В награду мы принялись их поить и кормить.
Марат подходил то к одной, то к другой клетке. Из кувшина с острым носиком он наливал чистую воду в водопойки. Он подставлял под струю палец и не пролил ни одной капельки.
Тося насыпала в кормушки просо, а я угостила прожорливых синиц муравьиными яйцами.
Марат ловко перебирал прутики клеток, будто это были струны гитары.
Из одной клетки вылетели синицы; они погостили на шкафу, одна из них, пискнув, села на плечо Марата, и он что-то ласково ей пробурчал, будто узнал. Потом снова, одна за другой, синицы влетели в клетку и принялись прыгать по жердочкам.
Я разглядывала комнату. На стуле висели синие брюки с красными лампасами. На столе и на этажерке были навалены книги и бумаги, бинты, географические карты и остро отточенные карандаши.
Тося стала вертеть в руках линейку, а военный сказал, что эта линейка стрелковая и лучше положить ее на место. Мы хотели прибрать в комнате, но военный — товарищ Багинского — сказал, что Марат всегда сам подметает и убирает так, чтобы каждая вещь была на своем месте.
Мы собрались уходить. Марат попросил Яшу пропеть нам на прощание.
Мы уходили под звонкие полнозвучные рулады.
— Тараканчиков поймайте! — крикнул нам Марат. Возвращались молча. Тося вдруг остановилась и резко
повернула в обратную сторону:
— Сына проведали, а отец в госпитале. Не надо ли ему чего-нибудь? Пойдем! Хоть одним глазом поглядим.
В глубине парка стояли длинные кирпичные корпуса. Тося направилась к ним очень решительно. В дверях нас остановила женщина в белом халате:
— К кому?
— Тут Багинский лежит... — начала Тося.
— К краснознаменцу? — перебила ее женщина.— К нему целый день со всех сторон рвутся, цветы приносят.
— К нему! К нему!
— Пускать не велено. Приходите, девочки, через неделю в приемный день.
Мы обошли кругом длинное здание.
Тося пронизывающим, долгим взглядом осмотрела окна первого этажа. Закинув голову, начала изучать второй этаж.
— Вот это! Открытое!
Я усомнилась, а Тося рассердилась:
— Видишь, сколько цветов на подоконнике!
Мы продолжали разведку. Разом увидели лестницу, прислоненную к сараю. Поняли друг друга без слов. Подтащили лестницу. Достает до второго этажа. Шатается. Отодвинули. Как вкопанная!
Тося меня обогнала. Я полезла за ней. Вдвоем на одной лестнице.
Койка Андрея Васильевича стояла у самого окна, заставленного букетами. Он лежал на спине не двигаясь. Голова на высокой подушке. Не понять: спит он или лежит с закрытыми глазами. Левая рука вытянута вдоль тола. На столике, прикрытая марлей, лежала кожано-деревянная рука. В комнате еще несколько коек. Багинский — один-одинешенек.
Тося засвистела, будто Яшка-кепар. Багинский приоткрыл глаза. Что-то мешало ему. Не сразу удалось повернуться лицом к окну.
Губы тонкие. Щеки впалые, бледные. Глаза глубокие, окруженные тенью. Он с удивлением прислушался и посмотрел куда-то вдаль, не видя нас.
— Дядя Андрей, это мы, юные Спартаки, — громко зашептала Тося, держась одной рукой за лестницу, другой за подоконник.
— Мы подруги Любы Одоленко. Марату для птиц корм принесли. И вас пришли проведать.
— Как сюда забрались? — спросил Багинский. — Очень просто, по лестнице.
— Спасибо, птахи. Только осторожно, не споткнитесь, друг друга не столкните. Зовут вас как?
— Бастилия!
— Галя!
— Бастилия в гостях у Жан Поль Марата! — засмеялся Багинский.
А я после этих слов даже пожалела, что не назвалась Марсельезой.
— Как там мой герой, шишек на лоб не наставил? — спросил Андрей Васильевич.
Багинский просил нас чаще приходить к Марату, читать ему вслух, только не напоминать про слепоту.
Мне показалось, что глаза Багинского как-то сузились.
— Больно, дядя Андрей? Он покачал головой.
— Бывает и больно, — сказал он как-то медленно. — И хоть нос в крови и злости полны кости, а встану и снова начну крутить. Я вас, девчонки, вместе с Маратом еще на коне верхом покатаю! На одну пулю в моем складе меньше стало. Поправлюсь — тоже из окна вылезу...
В комнату кто-то бесшумно вошел, и мы сразу, пригнув головы, опустились на ступеньку ниже.
— Спасибо, девочки, мне с вами легче! — крикнул Багинский.
Мы спускались и все еще слышали его голос:
— Привет Спартакам!
Кто-то в белом подошел к окну.
Мы убежали, даже лестницу не поставили на место.
— Как хорошо, что не продала я на Благбазе мамин украинский костюм! И думать не могла, что понадобится он для Международной детской недели. Это был наш праздник. Каждый праздник был тогда как вызов темным силам старого мира, даже праздник детей.
Мать достала костюм из комода и огорчилась, что он слежался, сорочка пожелтела. Она взялась привести его в порядок: отбелила на солнце, нагладила. Потом снова начала копаться в комоде, и в свертке с выкройками нашла помятую, черную бархатную безрукавку.
Все пришлось впору; юбка же была короткой, так как я стала уже выше мамы.
Мать сокрушалась, что не сохранила красные сапожки на подборах. Решили, что самодельные полотняные туфли на веревочной подошве заменят сапожки.
Заново надо было сделать венок на голову из бумажных цветов, прикрепить к нему ленты...
Я сомневалась: надеть ли сережки или без них лучше? А то опять, несмотря на «маскарад», Илья поставит вопрос о сережках на собрании детячейки.
Тосе же серьги оказались просто необходимы. А мои, маленькие, с белыми камешками, ей не подходили. На демонстрации «детей всего мира» она должна была изображать цыганочку. И глаза как черносливы, и лицо загорелое, только не было пестрой юбки с воланом.
Зато у Желтиковой каких только нарядов не было в гардеробе! Тося попросила Веру одолжить у Желтиковой широкую и яркую юбку — мол, понадобилась для костюмированного бала. Хоть и злилась на нее Вера, кривилась, будто набрала в рот уксуса, а юбку принесла — пеструю, в оборках и такую вместительную, что в нее могло свободно влезть несколько таких девчонок, как Тося. Чтобы было надежней, Тося подобрала и подтянула юбку у пояса, об-
мотала себя веревкой и пустилась в пляс, подергигвая плечиками. Глаза горят, руками помахивает.
Бабка Наталка накинула на плечи Тосе черную кашемировую шаль, вдела в уши свои медные круглые серьги, схватила за руку и провела по дорожке:
— Ну и краля писаная!
Тут-то Тося не растерялась: — Бабушка, дай денег, на газету подписаться!
— Это еще что за выдумка, все «дай» да «дай»!
— На «Юный Спартак», бабуня!
Бабка полезла за деньгами, и Тося от радости подписалась не на свое имя, а выписала «Юный Спартак» гражданке Ефименко Наталии Ерофеевне,
Илья Пахман объявил, что к Международной детской неделе надо во что бы то ни стало увеличить число подписчиков нашей газеты. Будут новые подписчики — газета станет дешевле, и все будут читать ее в Харькове, даже взрослые.
Тося подняла руку и первая громогласно обещала дать газете сто новых подписчиков. Начала она с бабушки.
И после примерки не захотела расстаться с цыганским нарядом.
— В таком виде буду всех уговаривать на газету подписаться.
Тося пошла в детдом «Красный кавалерист». Разыскала Курипочку и с умилением на нее посмотрела:
— Тетя, вы звали цыганку? Курипочка удивилась.
— Мне отец, благородный король, сказал, что вы хотите на «Юный Спартак» подписаться!
Курипочка от удивления вытянула свое желто-лимонное лицо. А цыганочке не отказала — подписалась на газету, правда, в долг: сказала, что деньги передаст через Василь Игнатовича.
Где только не побывала Тося в поисках подписчиков! Всюду порхала как пестрая бабочка.
Поздно вечером прибежала ко мне и начала скороговоркой рассказывать о том, что было ей в диковинку. К своей школьной подруге Соне она попала, когда семья садилась за стол.
— Скатерть была постелена, будто свадьбу справляют, — с изумлением начала Тося. — Вот живут! Недаром, что с вывеской! Сонин отец зубы лечит и новые вставляет. Начали меня усаживать за стол, а я сдуру отказалась, думаю: «Еще раз позовут, тогда соглашусь». Еще раз пригласили, а я думаю: «Обедом угостят, а на газету не подпишутся». Опять отказалась. Так мне после этого есть захотелось! А Сонина мама суп по тарелкам разливает. Они обедают, сидят чинно, глотают потихоньку, а я им про нашу газету толкую. Съели они суп, тарелки сменили, начали жаркое есть. Мать Соню спрашивает: «Тебе с каким гарниром?» Даже я посмотрела ей в тарелку, думаю: что за гарнитур такой? А мать ей обыкновенную тушеную капусту накладывает. После второго опять тарелочки сменили. И мне говорят: «Девочка, ну, а сладкое съешь?» Тут уж я решила не зевать, сказала: «Сладкое можно» — и пододвинулась к столу. Прямо передо мной бабка румяная стояла. Я недолго думая бабку к себе пододвинула и уплела ее за обе щеки. Подняла глаза, а они все с пустыми чистыми тарелочками сидят, на меня смотрят и посмеиваются. А бабка вкусная, с изюмом, с яблоками, душистая! Должно быть, ее по кусочку на всех надо было делить, а я ее одна прикончила. И на газету их подписала! — Выпалив все это, Тося тряхнула головой и убежала. ...Настал наш детский праздник — праздник детей рабочих всего мира, праздник детской дружбы всех народов. Мальчишки-газетчики громко выкрикивали у трамвайных остановок:
— «Коммунист»!
— «Известия»!
— Газета «Пролетарий»!
— «Южный гудок»! «Гудок Южный»!
И те же мальчишки, особенно громко, переливчато
распевали:
— «Юный Спартак»! «Спартак Юный»! Специальный
выпуск! Се-год-няшний номер!
Светило жаркое солнце. Воздух замер. Вороны и галки неподвижно сидели на карнизах крыш.
Солнце жгло, а нам в это утро дышалось неизъяснимо
легко и радостно.
Все улицы и площади наши! Заколыхались цветы, алые
знамена, плакаты:
Шире дорогу детям труда! Мы ласточки новой весны!
С тротуаров только и слышно было: — Гляди на них!
Один детдом шел за другим; это счастливчики: спят под крышей, учатся, смотрят спектакли, из глины лепят...
На улицы Харькова высыпали и беспризорные. Они шли гурьбой, босые, загорелые, в рваной одежде. Многие раздобыли банты, красные, как маки, прикрепили их на грудь. Шли, не соблюдая равнения, но старались не отставать от других колонн.
Тогда мы не могли пригласить в Харьков гостей из Африки и Индии, из близких и далеких стран. Мы сами изображали детей трудящихся всего мира.
В украинском костюме я осталась харьковчанкой.
Черепку углем удлинили брови, сзади прикрепили длинную косу. Он щурил глаза, изображая китайца. Так вошел в свою роль, что и разговаривать стал «по-китайски»:
— Чу-фо изольте?
— Здраста вам!
— Бур-жуй-я не боис-ся! Честный слова не боис-ся. Свою длинную косу, чтобы она не мешала, он обернул
вокруг головы. Волосы белые, выгоревшие, коса черная...
Черепок любил всех смешить.
Мальчишки, напялившие на голову красные фески с кисточками из черных ниток, изображали турок.
Тося-цыганочка всем нравилась. Будто выскочила из кибитки — смуглая, черноглазая девчонка.
— Какой ты веры? — спросил ее кто-то.
— А тебе какой надо? — вопросом на вопрос ответила Тося.
Рогачев украсил голову веером из петушиных перьев, лицо вымазал сажей, укрыв таким образом все веснушки. В руках у него лук с тетивой из пеньковой бечевки, а к ремню прикрепил колчан со стрелами, напоминавшими лучины для самовара. Настоящий индеец, родной брат Пятницы! Натянул он тетиву и первую стрелу направил к ногам озорной «цыганки».
За нами бежали взрослые и дети — «неорганизованное население».
— Турки на Сумской!
— Индейцы захватили Павловскую площадь!..
— Никогда такого не бывало. Мыкались бы раньше
по чужим людям, росли бы неучами, а теперь детоньки паши как сизые голубчики, — громко говорила женщина, будто произносила речь с трибуны.
Впереди всей демонстрации шли спартаковцы, одетые в юнгштурмовки — форму боевых немецких комсомольцев. Рубашки цвета хаки заправлены в короткие штаны. На девушках такие же рубашки с отложным воротом. Все перетянуты тонкими ремешками. Среди одетых в юнгштурмовки было много воспитанников Олеси. Впереди знаменосец — белобрысый Олежек.
Детдомовка Ада подобрала каштановые волосы, раскраснелась от жары, от волнения... Хорошо идет она в ногу, соблюдая равнение!
Над разноликими рядами детей возвышался огромный земной шар, водруженный на телегу, задрапированную кумачом. На нем стояла стройная девочка в белом. Развевались золотистые волосы. В ее руке трепетал красный платочек.
— Да здравствует юная гвардия грядущих битв! — неслось нам навстречу с трибуны.
Мы разом огласили большую площадь Тевелева:
— Привет старшим братьям!
— Дети всех стран, объединяйтесь!
— Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем! — гремел наш многоголосый ответ.
На площади рядом с трибуной расположился военный оркестр.
Я всегда любила не только слушать духовой оркестр, но и смотреть на музыкантов.
Солнце золотило медь. От труб шел жар. «Оркестранты — ведь это прежде всего друзья. Вот если бы весь мир стал одним оркестром, дружным, согласованным,— подумала я. — Певучие флейты и трубы, большой барабан и даже тарелки не заглушают друг друга...» Я не сводила глаз с высокого дирижера. «Такому бы военному саблю в руку... А у него — палочка».
Тося пробралась вперед. Одной рукой она придерживала шаль, другую протягивала улыбающимся старшим братьям. Они что-то ей говорили и помогли подойти ближе к юному Спартаку с бородкой и в белой фуражке — Григорию Ивановичу Петровскому.
— Товарищ Петровский, дайте я вам погадаю! — раздался звонкий голос Тоси. Но он потонул в восторженных криках:
— Да здравствует дидусь Петровский!
— Да здравствует юный Спартак Петровский!
Нам было тогда по одиннадцати, двенадцати, тринадцати лет. Люди с бородками казались нам стариками. Революция была молодой. Страна — пятилетней. А ведь «дедушке» Петровскому было всего-навсего сорок пять лет.
Конечно, он был дедушкой по сравнению с двадцатипятилетними большевиками, которые командовали в те годы дивизиями, корпусами, фронтами.
И мы, Спартаки, чувствовали себя гораздо взрослей, чем были на самом деле.
Должно быть, мой нарядный украинский костюм приметили с трибуны:
— А ну, дивчинонька, вдарь гопака!
К этому я не готовилась. Но не жеманиться же мне на площади! Закинула правую руку на затылок, а левой подбоченилась. Наряжала меня мать, а платочка нет. Не знаю, кто вложил мне в руку платочек. Ноги сами подскочили. Легко и радостно! Оркестр играет! И не одна я понеслась в танце...
Мне казалось, что и на трибуне все приплясывают, только ног не видно. Задрожал воздух от гопака. Трубы и флейты танцуют гопак.
Солнце так и бьет в глаза.
Бусы мои были из елочных украшений, настоящие на Благбазе остались. Не выдержали елочные порывистой пляски, поломались, шею колют, но это не мешало мне закидывать голову. Отколов колено, сорвала я с шеи колючие бусы и остановилась как вкопанная...
Не успела опомниться, как мальчишки в турецких фесках начали исполнять у самой трибуны невиданный танец. Разом оторвались от земли, подпрыгнув высоко, в воздухе ловили себя за ноги, а падая на землю, быстро скрещивали ноги по-турецки.
...Детячейки юных Спартаков с песнями расходились по своим районам:
Если б дождик ие пошел,
пропадать бы злакам,
Если бы не комсомол,
кто б учил Спартаков!
Вечером в саду имени Ганны, на спортплощадке имени Леонида Балабанова, па Ивановке, Панасовке и Гончаровке продолжался наш праздник.
Когда стемнело, к синему ночному небу взметнулись огни факелов.
Илья Пахман, наш оратор, сделал шаг вперед и, откинув голову, очень пылко сказал:
— Самый палящий огонь революции — это пламя наших сердец! Юные Спартаки должны протянуть руку дружбы всем пролетарским детям. Создадим Детский Коммунистический Интернационал! По всему миру разошлем письма с призывом помогать отцам и братьям бороться за свободу.
— Напишем! Напишем!
— Телеграммы пошлем!
Я сразу представила земной шар, опутанный телеграфными проводами... Полетят на красных крыльях и наши письма со штемпелем «Харьков». И, конечно, нам ответят, обязательно ответят. Неутомимый почтальон Лепехин с удивлением будет смотреть на пестрые конвертики с необычными марками.
Отец рассказывал, что в Индии на телеграфных проводах, как акробаты, качаются обезьяны. А слон может хоботом столб повалить.
Сколько еще интересного узнаем мы от новых друзей! Шли порознь, а будем вместе! Эх, если бы все эти мысли да на провода!
Я вспомнила Левко. Он не в Африке и не в Америке, а я ему ни разу не написала.
Повеял свежий, прохладный ветерок.
Кто-то затянул песню:
Звезда с пятью углами восходит над землей!
Все подхватили разом:
Мы, дети пролетариев, построим мир иной!
Мы вертели глобус, листали географические атласы.
В харьковском МОПРе (Международной организации помощи борцам революции) нам посоветовали, куда написать, и даже дали адреса.
Мы разослали письма в разные страны. Первые ответы пришли из Германии.
В Харькове только и говорили о том, что Германия накануне великих событий. Там у власти буржуазия, но сгущаются грозовые тучи, скоро настанет день, когда радиотелеграф разнесет по всему миру весть о том, что и в Германии победили рабочие.
Все говорили тогда, что Ильич поправляется и следит за германскими событиями. Мысль его напряженно работает. Уже недалек час, когда он возвратится к рулю и будет управлять революционным движением.
Мать на заводе вступила в ячейку МОПРа. Работницы вносили в фонд МОПРа обручальные кольца и другие ценные побрякушки.
Бабка Наталка стала вязать шерстяные носки — узникам капитала.
Получали свежие газеты и прежде всего находили телеграммы о событиях в Германии.
С карикатур скалили зубы кровавый палач «мясник» Носке, диктатор фон Зеект, похожий на гиену.
Это они и их приспешники расправлялись с революционерами на землях Саксонии и Баварии.
Правительство германских буржуев воюет с детьми. Десятилетних девчонок и мальчишек только за то, что они юные Спартаки, кайзеровские учителя и полицейские избивают резиновыми дубинками и хлыстами, арестовывают, тащат в сырые застенки и грязные карцеры, а юные герои уличных боев и демонстраций не отступают...
Дети рудокопов, слесарей, ткачих и прачек с пением «Интернационала» выходят на улицы германских городов, несут впереди себя знамена. С чердачного окна высокого берлинского дома юные Спартаки выпустили голубей. К их ножкам привязали красные ленточки; золотыми буквами написали на них: «Да здравствует Ленин!»
...На заводах и фабриках Харькова, в клубах и детских домах комсомольцы и Спартаки устраивали «Уголки Германии». На карте Германии маленькие флажки показывали места, где вспыхивал фашизм. Перевитые красные и черные ленты окаймляли портреты Карла Либкнехта и Розы Люксембург, погибших от руки убийц. Железный Карл и Красная Роза!
Губернский съезд юных Спартаков постановил: к 6-й годовщине Великого Октября поднять всех харьковчан на защиту пролетарских детей Германии — провести в их пользу трехдневный кружечный сбор.
Спасая детей Германии, мы спасаем самих себя.
...Было это 8 или 9 ноября 1923 года. Поднялась я рано. Распахнула ставни. С досадой взглянула на тряпку в разбитом стекле. На улице праздник, а у нас в окне тряпка торчит.
Я полезла в комод и вытащила подарок тети Христины. В синей полутьме приложила сережки к ушам, посмотрелась в зеркало. Бриллианты или не бриллианты, а сережки вспыхнули и засверкали, как две росинки. Я продела их в проушки и тут же, улыбнувшись сама себе, сняла.
Зажала сережки в руке и вышла, досадуя, что громко хлопнула дверью. Шла и вела разговор с тетей Христиной: «Дедушка Кондрат тоже сказал бы нам: «Сдадим сережки». «Тетя Христина, я и так тебя никогда не забуду...»
Так дошла я до Центрального клуба юных Спартаков, в самом центре города. Заглянула в огромный пустой зал. Стоят скамейки на чугунных ножках. В зале — тысяча пятьсот мест. Пересаживайся с места на место! Так и хотелось крикнуть, чтобы отозвалось полнозвучное эхо.
В штабе сбора ребята не спали всю ночь. Я протянула сережки, а кто-то, зевая, сказал:
— Для милого дружка и сережку из ушка.
...Спартаки перегородили тротуары, окружили площади, трамвайные остановки спартаковскими заставами. Па фанерных щитах слова: «Пролетарским детям Германии».
Сегодня пропуск по городу — наша марка.
Взялись за руки. Пройти через центр может только тот, кто купит марку.
Прохожие разные: одни сами просят продать марку, другие возмущаются, а пуще всего нэпманши:
— Никуда от этих Спартаков не денешься! Глаза мозолят!
— Нельзя спокойно погулять!
— Сами не в роскоши живем!..
Один красноармеец протянул деньги и сказал:
— Только что в роте жалованье получил! Пожилой мужчина прихрамывал, а когда заговорил, неожиданно по-военному щелкнул каблуками:
— Прошу!
Он взял много марок и начал долго рассказывать, как в последние дни империалистической войны немецкие солдаты угощали русских сигарами, а русские предлагали немцам добрую махорку.
Некоторые же со злорадством напоминали нам о немецких патрулях, маршировавших по Харькову в 1918 году:
— Что, может быть, опять Пушкинскую улицу в Немецкую переименуем?
— А кто Тевелева расстрелял?
Мы в ответ терпеливо рассказывали о коммунистах-Спартаках Германии, звали на помощь детям борцов.
Среди сборщиков я узнала Шмеля. Обгоняя прохожих, он забегал вперед, преграждая дорогу тем, кого по внешнему виду, по откормленному затылку можно было принять за нэпмана.
Шмель оказался особо умелым сборщиком. Он и меня учил:
Як пристанешь: руб достанешь;
А отстанешь — шиш достанешь.
Особенно часто относил полные кружки в штаб сбора Митя Рогачев. Свои призывы на русском языке он пересыпал немецкой речью.
— Либе геносен! Либе геносен! — приветливо произносил Рогачев.
Когда его хвалили за немецкий, он напоминал, что Михаил Васильевич Фрунзе, приговоренный к смерти, два года, ожидая пересмотра дела, изучал в тюрьме иностранные языки.
— А я выучил на воле, — говорил Рогачев.
Только веснушки, стеснившиеся на его лбу, могли знать, что переполняло эту головушку. Не голова, а трест!
Поэтому, кто называл его по-прежнему Митькой, кто успел привыкнуть к Тресту...
Если бы дети Тюрингии, Саксонии, Рура могли видеть, как старался для них рослый веснушчатый Митька-Трест, харьковский юный Спартак!
А Курипочка даже присела, пытаясь «прошиться» — бесплатно пройти сквозь цепь.
— Ой, спешу, меня тоже дети ждут! Ну, дай марочку, только в долг, одну, не больше.
Пришлось ей поверить.
Стемнело, и мы начали «наступление» на рестораны. На этот раз не дерзили. Мы ходили между столиками кафе «Руж». Сытые, самодовольные люди медленно, через соломинку, тянули из бокалов какие-то напитки. Прикалывая марки, мы вежливо «разгружали» нэпманские карманы.
Один жующий нэпман медленно жирной пятерней полез в карман. Пальцы, как сосиски, весь расплылся в улыбке:
— Ах, портмоне дома забыл!
Я не стала терять на него время и отошла. И тут увидела в зеркале знакомую физиономию: Родя сидел за отдельным столиком. Он вытягивал шею, разглядывая новых посетителей. Должно быть, кого-то ждал...
Мы уже знали, что его компаньона за какие-то скверные дела выслали из Харькова в Нарым. А сам он поручил свою частную торговлю жене и поступил на службу, стал маклером на товарной бирже, где совершаются сделки.
На всех поворотах своей судьбы Родя облачался в новый, соответствующий своему положению наряд. На этот раз он вырядился во френч и не расставался с вместительным портфелем из крокодиловой кожи.
Я первая ему заулыбалась. Родя даже привстал и поправил прическу. Его новый френч уже был украшен бледно-розовым флажком. Но не у меня же он купил! И я стала один за другим прикалывать ему флажки.
— Не смею возражать! — произнес Родя и заулыбался. Он брал марки, не глядя на их достоинство, и говорил:
— Почему Ада к нам не приходит? Мы же ей первые друзья. Ну, захотела стать маленькой коммунисткой, в этом есть свой смысл, это не так уж плохо. А кто ее воспитал, кто ее взлелеял? Кому она прежде всего обязана?
Мне и моей супруге. Я даже горжусь ею. Ведь это же факт: в свое время я удочерил будущую коммунистку!
Родя вытянулся и, захлебываясь, зашептал мне в самое ухо:
— И ты, ты на моих глазах выросла. Другим не скажу... тебе скажу... Думаешь, декабристам плохо жилось? Князья! Помещики! Чего им не хватало? Глубины сибирских руд? Не знаешь? А я знаю: они-с хотели прославиться!
Он говорил, а я продолжала наделять его марками.
Наконец он взглянул на марки и, подняв руки, произнес:
— Сдаюсь!
Я же не смогла удержаться, чтобы не созорничать: почтительно поклонилась и присела, как благовоспитанная барышня. По-французски такой поклон называется «реверанс», а по-немецки «книксен».
Родя рассчитался сполна наличными.
Поздно ночью в Центральном клубе юных Спартаков мы подсчитывали доход кружечного сбора. Перед нами возвышались горы бумажных денег. Синие к синим. Зеленые к зеленым. Все они будут обменены в Госбанке на доллары, а доллары будут отосланы в Германию.
...А через несколько дней мы пришли в клуб вышивать знамя. Хотелось, чтобы оно было очень красивым и реяло среди других знамен юных германских Спартаков.
В клуб приходили и мальчишки.
Черепков оказался прекрасным вышивальщиком. Нитка не путалась, стежки один к одному.
Пришел Рогачев, ротфронтовским приветом поднял руку и весело крикнул:
— Салютос, камарадо!
Он всех нас уговаривал не лениться и за десять уроков выучить международный язык эсперанто.
— Всего в мире больше двух тысяч пятисот языков. Мы выучим только один и со всеми будем говорить по душам. Очень просто: кок — петух; кокино — курица; ко-кидо — цыпленок.
— Кнабо, замолчи! — сказала ему Тося.
За один только урок она выучила и запомнила много слов.
...Мы вышивали знамя, а мысли набегали одна на другую. На глобусе Берлин — это только точка, Харьков — точка. А мир большой! И в Берлине живут Тоси, Ады — мои друзья, неведомые девчонки и мальчишки.
Но есть и Зыковы и Клепцовы — кишмя кишат.
Одни люди идут на смерть, не щадят себя в борьбе за счастье народа, другие живут только для себя, во имя своего живота.
...Шелковое, тяжелое знамя складками спадало с наших колен. Взмахнет знамя крыльями и птицей полетит через простор, туда, где на улицах кипит рьяная схватка с алчными и жестокими капиталистами.
Дети шахтеров, грузчиков и прачек подносят патроны революционным бойцам в зеленых юнгштурмовках.
Тянут провод...
Реют боевые знамена и среди них наше, багряное. На нем изображены два мальчика, два брата. Один живет в Стране Советов, другой — в Германии.
Из рук в руки передают друг другу зажженный факел.
Вместо букваря мама читала газеты. Обязательно отыскивала последние новости, телеграммы. Читала медленно, вслух.
Спросит Сергей: «Какие новости?» Мать отвечала по-разному. То: «Много нового, да мало хорошего», то просто: «Добро!»
— Был в доме телеграфист, а о телеграммах не думала, — признавалась мама. — Что там на белой ленте — не мое дело. А сама получила телеграмму, узнала, какие они «легкие». И не весят ничего, а разрываются, как бомбы...
После того как мать получила служебную телеграмму «с заверенным фактом», она долго побаивалась разносчика телеграмм.
Газеты приносили ей весь земной шар, с его тайфунами, землетрясениями, вулканами, сотрясающими землю и воду.
Мать знала, что не только от лавы вулканов опалена земля. Не прекращаются войны, льется кровь... Имена убийц... Имена погибших...
Мать сочувствовала советским дипломатам:
— Лучше горы белья перестирать, чем врагов уговаривать.
Отложит газеты, вздохнет и скажет:
— Носке! Носке — кровавая собака. И глаза бы не глядели.
С радостью начинала рассказывать, что в Москве на открытии памятника профессору Тимирязеву будет показана небывалая солнечная машина.
Кончался день. Все переговорено. Постели постланы. Подойдет мама к лампе, чуть прикрутит ее и тихо скажет:
— Ильич-то ходит. Даже поднимается по лестнице на второй этаж. До сих пор живет на даче. Много времени проводит на воздухе, в саду. Дай бог ему здоровья!
Скажет так и потушит лампу.
В газетах тогда много писали о воздухофлоте. Харьковчане собирали средства на свой первый авиационный отряд в десять самолетов, на эскадрилью имени Ильича.
Через газету призывали друг друга вносить добровольные пожертвования на Красные воздушные крылья.
Сергей внимательно читал длинные списки вызываемых, а когда встречал знакомые фамилии, радостно подскакивал и восклицал:
— Плеханчик, молодец! Сам внес и товарища Шпару вызывает: «Обопритесь на «воздух», товарищ Шпара!»
Однажды Сергей вдруг отложил газету и многозначительно посмотрел на маму.
— Про тебя!
Мама руками всплеснула:
— Всяко бывает. Покажи, шутник!
Сергей торжественно произнес нашу фамилию.
— Дай-ка я сама!
И мама громко прочитала заголовок:
— «Крепите крепче воздушную снасть!» Пробежала глазами список — нашла и свою фамилию, и тех, кто ее вызвал.
Мать несколько раз перечитывала взволновавшие ее строчки со знакомыми фамилиями работниц Мыловаренного завода.
Как бы не промедлить с пожертвованием на постройку крепких красных крыльев, и кого бы ей, в свою очередь, вызвать?
— На весь город прославили. Черным по белому пропечатали: М. И. это я и есть — Мария Ивановна.
Утром я отнесла в редакцию деньги и четко написанное мамино письмо.
— Как бы второй раз не вызвали, — пошутил Сергей.
Мама спрятала газету в комод и стала ждать, когда напечатают ее вызов: «Вношу и вызываю...»
Она и Лепехину поведала, что ее в «Коммунисте» пропечатали.
А он рассказал, что почту из Москвы в Харьков стали доставлять за пять часов на громадном самолете «Илья Муромец». Все мы удивлялись тому, что воздушный богатырь поднимает 8 человек.
Ведь это тоже была новость!
Мать привыкла к тому, что все события, о которых она читала, происходили где-то далеко, поэтому она очень поразилась, когда одно событие, так взволновавшее ее, произошло не где-то за тридевять земель, а на нашей улице.
Случилось это за несколько дней до Октябрьских праздников.
Утром поднялась я еще до гудка. Ну, думаю, Сережка заспался, надо разбудить. А мать подозвала и тихо сказала:
— Пусть спит.
Тут я узнала, что ночью на нашей улице был пожар. Па заводе «Свет шахтера» сгорели два цеха. Меднолитейный и чугунолитейный.
Ночью Сергей услыхал, как мимо наших окон, одна за другой, промчались пожарные машины. Выскочил из дому, даже дверь не запер.
— Вернулся на себя не похож: брови опалил, бросил на стул прожженную кепку, должно быть, в самое пекло лез, — рассказывала мама.
Я быстро оделась и побежала в конец улицы. Еще дымились объеденные огнем балки. Земля была покрыта искореженным железом.
— Теперь мы, как потерянные, без завода не проживем, на харчи не зашибешь, кругом безработица, — говорил пожилой мужчина в замасленной куртке.
Когда на следующий день я снова пошла на завод, литейщики, кузнецы, кочегары уже разбирали черные балки стропил, опаленные огнем краны, изложницы и навороченные повсюду груды металла.
Я подошла ближе и увидела огромного человека, измазанного копотью. Он опустил на землю тяжелую металлическую крышку и вытер брезентовой рукавицей пот. С волос и лба текли грязные ручейки.
Не сразу узнала дядю Сашу, отца Черепка: ведь раньше я чаще всего видела его улыбающимся. Теперь же он выглядел суровым, его покрасневшие глаза слезились. Он снова исчез за бесформенными грудами.
Рабочие спасали из-под обломков все, что можно было спасти. Выносили цилиндры, железные штанги, форсунки.
Рабочие пришли в завком и сказали, что они сами вновь отстроят и пустят медно-чугунолитейные цеха, уничтоженные огнем. Они решили отчислить на это и свои заработанные червонные рубли, лишь бы скорей в горнах закипел металл.
Дядя Саша снимал с себя мокрую гимнастерку и работал, подставляя солнцу свою бронзовую спину.
Колька приводил с собой всех своих младших братиков и сестренок. Располагались поблизости от работы отца. Они были худыми, светловолосыми, бледнолицыми, очень похожими друг на друга. Старший брат следил, чтобы все они держались в куче. Вместо игрушек он тут же доставал для них всевозможные штуковины, вроде бронзовой масленки или металлических чушек.
«Черепки» грелись на солнышке, а их отец поднимал и таскал все самое тяжелое. Вздувались жилы от напряжения, а он все ворочал и ворочал ломом.
И другие литейщики превратились кто в каменщиков, кто в плотников или просто чернорабочих. Со всех сторон к ним шла подмога.
О пожаре на нашей улице писали в газетах.
Мать читала и каждый раз говорила:
— Чистая правда!
После этого она стала еще большей охотницей до газеты.
...По заводу и улица наша стала называться улицей Свет шахтера.
Однажды в один из ноябрьских дней почтальон Лепехин доставил нам не письмо, не посылку, а человека в длинной кавалерийской шинели. Он встретил его на улице, когда тот в поисках нашего дома плутал на Газовом въезде.
Этот человек, перед тем как войти, солидно кашлянул, а когда вошел в комнату, так и остался стоять в дверях, виновато улыбаясь.
Конечно, я его видела, но где? Может быть, на плакате в честь пятилетней годовщины Красной Армии? С ног до головы на нем все новое. В памяти возник парень, подпоясанный веревкой, босой, в белой рубашке...
— Виктор! Виктор! Заходи!
Даже не верилось, что этот статный военный мог поджигать пучок соломы, привязанный к хвосту коровы. У меня была Тося. Она сидела на кровати. Вошел Виктор, и Тося вскочила. Глаза ее заблестели.
— Знаю! Знаю! Драчун! Драчун! Ку-ка-ре-ку! — громко прокричала она и протянула руку.
Виктор опустил голову и виновато развел руками.
Он долго не садился, несколько раз прошелся по комнате. Его фигура не вмещалась в зеркале на стене, а он сделал вид, что и не посмотрел на себя.
Виктор передал нам привет от Христины Петровны и Матрены Петровны. Христина Петровна велела ему разыскать нас в Харькове, а он виноват: не сразу нашел. Кроме того, в первые месяцы, как стал он курсантом, не получал увольнительную в город.
Виктор рассказал, как поступил он добровольцем в кавалерию, получил несколько благодарностей от командира полка, заслужил приз на конных состязаниях и командование направило его в Харьков в военное училище.
— Буду не только кавалеристом, но и кавалеристом-связистом! Ты первая обучала меня азбуке Морзе, — вспомнил Виктор.
— А меня не научила, — вставила Тося и, сделав обиженное лицо, стала собирать со стола книжки и тетради.
В честь дорогого гостя мать застелила стол вышитой скатертью, поставила и солонку с солью.
— Живо шуляки изготовлю!
— Да не беспокойтесь, тетя, я ненадолго: увольнительную дали до шести тридцати.
— За это время кабана зажарить можно! Мать заспешила на кухню. И Тося за ней.
— Ты куда? — спросила я.
— Я сейчас! — ответила Тося.
— К шулякам приходи! — крикнула мать ей вдогонку. Виктор достал железную ручку (с одной стороны пе-
рышко, с другой — карандашик) и на первой странице новой записной книжечки красивым, четким почерком записал наш адрес; сказал, что отошлет его тете Христине и она обязательно нам напишет.
— Она ведь теперь грамотная! — сказал Виктор и опять улыбнулся.
Может быть, он стал таким степенным, потому что расстался с кудрями? Всем своим видом говорил, что теперь не только представляет тетку, ставшую председателем сельсовета, но и сам он — красный курсант!
В сенях послышались шаги.
Тося вернулась, и не одна.
— Это мы, — раздались голоса.
— Мы — кузнецы! — лукаво и радостно пояснила Тося.
В дверях показались Рогачев и Пахман.
— Только двоих сцапала, — будто оправдывалась Тося. Мальчики чинно сняли кепки.
«Мы — кузнецы» не сводили глаз с нашего гостя. Так как разговор не клеился и все чувствовали себя «как в гостях», Илья Пахман достал письмо, недавно полученное от Павла Чеботаря.
Чеботарь писал, что теперь он уже лошадь больше не дергает, не понукает; приобрел крепость посадки и хорошо работает шенкелями. Научился он и «балансировать», то есть сохранять равновесие на всех аллюрах. Его лошадь особенно хорошо идет крупной рысью. В конце письма Чеботарь писал, что рад служить под алыми знаменами червонцев!
Прочитав письмо, Илья добавил от себя:
— Конница отражает огненный порыв революции! Виктор оживился.
— Как гикнешь! Летишь! Земля дрожит. Даешь! — сказал он с нескрываемым удовольствием. И стал рассказывать о первых днях своей службы. Только тут узнала я прежнего Виктора.
— Обращаться с лошадью не трудно; обращаться с лошадью каждый может. У лошади одна голова, один хвост, четыре ноги: две передние, две задние. Голова у лошади впереди, а хвост сзади. Спина у лошади сверху, а живот снизу. Надевать уздечку надо на морду, а не на хвост, — сказал он с усмешкой.
Первый раз после смерти отца было тесно за нашим столом. Мать поставила макитру. Разлила маковое молоко по тарелкам. Захрустели коржи...
— Еда мирового значения! — вытирая губы, произнес Рогачев.
— Скажи нам эту фразу по-немецки, по эсперанто, на всех языках, какие знаешь, — попросила Тося.
Рогачев одним дыханием выпалил несколько фраз.
— Понятно! — остановила его Тося и повернулась к маме: — Это он, тетя Маруся, прикрываясь мировым значением, себе добавку просит.
— Не прогневайтесь, больше нет, — сказала мама. Сняла старую гитару со стены и, вздохнув, передала ее Виктору: — Сыграй мою любимую.
— Что за песня? — спросил Виктор.
— Сам догадайся. Виктор задумался и сказал:
— Знакомая бандура.
Встряхнул головой, ударил рукой по струнам и запел:
Реве та стогне Днiпр широкий,
Сердитий вiтер завива,
До долу
верби гне высокi,
Горами хвилю пiднiма.
Мы пели вместе с Виктором. И мама пела вместе с нами.
Когда Тося привела с собой Илью и Митю, я подумала: «Молодец Тоська! Без друзей и радость не в радость».
Все хотелось мне спросить Виктора, не встречал ли он, когда приходилось ему бывать в городке на почте или на базаре, мальчишку, по имени Левко, по фамилии Макуха? Фуражка на нем примятая. Складный такой. Ходит и бегает быстро. Глаза из-под густых бровей далеко видят... Любил рыбу ловить...
Я живо представила, как морщит брови Левко, внимательно слушает, все понимает с полуслова. Но спросить о нем постеснялась. Может быть, и его когда-нибудь встретит Лепехин и к нам приведет?
Стрелка на «ходиках» приближалась к шести тридцати. Виктор подошел к зеркалу, падевая шинель, расправил складки у ремня, надел буденовку.

— Добра шапка! — сказала мама,
— Шинель на вырост сшита! — не удержалась Тося. Прощаясь с мамой, Виктор щелкнул каблуками и молодцевато козырнул.
Гурьбой пошли мы провожать красного курсанта. Мать убрала скатерть.
— Ухо-парень! — как-то дружески сказала она о Викторе.— Взгляд у него больно привлекательный. Почаще бы получал увольнительную!
...Как-то вымыла я пол обмылками, и мать, довольная, взялась за газету. Долго, долго читала, не отрываясь от газетного листа. Только потом я заметила, что она не водит глазами по столбцам, а уставилась в одну точку, словно окаменела. Потом протянула газету мне. И я прочитала о том, что швейцарские судьи отпустили на все четыре стороны презренных убийц нашего дипломата, большевика Воровского — Конради и Полунина.
Когда еще в мае мать узнала о том, как белогвардеец подкрался к Воровскому средь бела дня, выстрелил, а после закурил сигару, она снова пережила и свое горе.
На заводском митинге мать первый раз в жизни попросила слова. Она не смогла пересказать мне свою речь. Но подруги мамы рассказали, что все к Марии Ивановне прислушались и взволновались.
А через день в газете были приведены слова работницы Мыловаренного завода: «Надо судить тех, кто оправдал злодеев».
Я чувствовала, что маме нелегко, все думает и думает. Чтобы отвлечь ее от тяжелых мыслей, я стала к ней приставать:
— Мама, мне бы борща, как ты варишь...
Мать отнекивалась — «не до борща». А потом мы договорились: борщ будет, если я приведу к обеду всех Черепковых.
Самое трудное было притащить дяду Сашу. Он просил подождать, а когда я снова пошла за ним, оказалось, он и не помнил о приглашении; удивился: что это я к нему так пристала?
— Дядя Саш, меня мать съест! — ныла я, как настоящая приставала. — Дядя Саш, мать сказала, что нельзя детишкам быть без горячего.
Последний довод оказался сильнее всех предыдущих, и наконец мы пошли.
Самого маленького дядя Саша посадил верхом на плечи. Это называлось «на лоша». Руками отца завладели Юрка и Юлька. Сзади шествовал Колька.
Сергей встречал гостей. Вокруг него завизжали, запрыгали маленькие, белобрысые, увертливые «черепки».
— Раз, два, три, мы большевики, за стол! — по знаку мамы скомандовал Сергей.
Юлька не хотела расставаться с краснозвездной фуражкой Сергея.
Чтоб не огорчать девочку, я повязала ей голову красной косынкой.
Когда все расселись, мать каждому налила по тарелке борща.
Востроглазый Юрка ударил деревянной ложкой по тарелке. Сергей же ему в ответ на двух ложках простучал: трам-та-драм-та-та!
Ложки так и замелькали.
— Без аппетитных капель обходимся,— усмехнулся дядя Саша. — Хорош борщ!
У детишек зарозовели щеки; они так и льнули к отцу.
— Вьюнки! — сказал дядя Саша. А мама снова налила ему до краев.
— Благодарю, Мария Ивановна, наелся досыта; после такого обеденного перерыва дело веселен пойдет. Скоро и мы свою кашицу в плавильных печах варить начнем... Тоже ложкой ее ворочаем, когда пробу берем.
Мать начала выговаривать дяде Саше за то, что он себя не бережет:
— Ведь один у детей, а надрываешься как оголтелый. Он сжал ложку, будто принял ее за кувалду. Говорили, что железные полосы он мнет, как солому.
Но ложка осталась цела.
— Как же не надрываться, — сказал дядя Саша жестким голосом. — У меня, Мария Ивановна, душа страдает; после пожара прямо голову потерял. Только все наладили. Работенка пошла, сколько людей при деле стало, а на тебе: урон государству и нам неприятность. И какая еще неприятность! Не калеки мы. Навалились разом. Покамест не до покоя, а пустим цеха, тогда и я отскребусь, отосплюсь.
— Вот и мой таким был,— сдавленным голосом сказала мама. — Неуемный! Душу вкладывал!
...Весь ноябрь стоял удивительно солнечный, теплый.
Первого декабря резко изменилась погода. Сухим, колючим ненастьем, гололедицей началась зима. Мать то и дело вспоминала отца. Такая погода доставляла ему много хлопот. Трудно было поверить, что толстая ледяная корка покрыла провода, а отца нет на линии. Когда на море бедствие, по телеграфу летит сверхмолния с пометкой «шторм». Гололедица телеграфистам, как шторм морякам.
В тот день была нарушена телеграфная связь с Москвой. Пострадали телеграфные провода и антенны радиостанций. Газеты вышли без телеграмм.
Не прошло и суток, как снова загудели сестры-проволоки. Бежали по ним разные вести и среди них телеграмма о том, что в Харькове на заводе «Свет шахтера» полностью восстановлены два цеха. Меднолитейный дал первую плавку.
зргей притащил грифельную доску. С одного края она была отбита, но это не мешало ей стать «полем боя».
Брат за все принимался с жаром. Он подолгу стоял у доски, покрывая ее цифрами. В руке крошился мелок, а он все выводил новые и новые цифры, стирал их мокрой тряпкой и снова принимался решать примеры.
Несколько зим он ходил в реальное училище, но было это еще при царе. Одно Сергей помнил, другое будто и не учил. Читал, писал, считал, а правила забыл...
Он упрямо решал одну задачку за другой. И все вслух, сопровождая каждое действие ударом мелка.
Множил четверть фунта хлеба, полагавшегося жителям Петрограда в 1918 году, на самые разные числа: выяснял, сколько было учеников у Пифагора, зная, что половина его учеников изучала математику, четвертая часть занималась изучением природы, а седьмая — проводила время в молчаливом размышлении. Кроме того, было известно, что у Пифагора среди его учеников было три девы. Сергей называл их: Тося, Люба и Галка.
Он придумывал и свои задачи. Высчитал, что наш Лепехин в день проходит по двадцать верст. За свою работу
почтальона прошел по Харькову свыше 500 тысяч верст -значит, обошел полсвета.
Как-то Сергей вернулся домой необычайно радостным. Он готов был подбрасывать меня и маму к потолку, только потолок у нас был низким.
Сергей кричал:
— Даешь науку!
Не напрасно командование откомандировало его на рабфак.
Мать на радостях поставила самовар.
Сергей подносил чашку ко рту, делал вид, что обжигается, раздувал щеки, кланялся чашке, называя ее «Чашей знания».
Мать была довольна. Еще отец хотел, чтобы Сережка учился дальше, стал бы человеком; беспокоился, как бы сын не остался недоучкой.
— Держись, Галька, раскушу физику — буду красным инженером!
— Может быть, по слабым токам пойдешь? — спросила я брата.
— Нет. Буду специалистом по велосипедам! — шутил Сергей.
Сергей учился весело. Первое время ему трудно было привыкнуть сидеть на одном месте за книгами и тетрадями. Он ходил взад-вперед по комнате, а комната маленькая. Я подумала: «Голова у него закружится» — и предложила брату решить еще одну задачу: сколько верст сделает он по комнате от стены к стене, пока станет красным инженером?
Все, что попадалось Сергею под руки, он пускал в ход как наглядные пособия. Особенно когда изучал геометрию.
— Известно ли тебе, мама, что такое куб?
— Белье кипятить?
— Это другой куб, мама. Куб — это многогранная равносторонняя фигура, — объяснял Сергей. Он подходил к маме и грозно спрашивал:
— Может ли угол быть измерен? Можно ли угол рассматривать как величину?
Мать молчала. Сергей брал ее под руку, подводил к часам-ходикам и начинал вращать стрелки. Когда стрелки совпадали, он громко, будто объявлял отход поезда, произносил:
— Угол между стрелками равен пулю!
В ход пошла и мамина скалка: он начинал то совмещать ее с плоскостью стола, то описывать ею всевозможные пути.
Изучая геометрию, Сергей говорил так, будто выступал на митинге:
— Если бы перпендикуляром да хватить по буржуазной Европе!
— Сережка, ты как многословная телеграмма, — старалась я отрезвить брата.
— А ты гашеная марка, — бросал он мне в ответ. Сергей уверял, что когда он подгонит математику, то и
говорить будет... сжато.
К нам стали приходить новые товарищи Сергея. Они снимали шинели, кожанки, кожухи и куртки, наслаждались теплом; говорили, что в общежитии рабфака печки-буржуйки дымят, с улицы войдешь — не видно ничего.
Учебники и карандаши называли орудием производства; говорили о трамвайных талонах, о том, что стипендия хоть и величина растяжимая, но, как ни тяни ее, все равно не дотянешь...
Иногда после получения стипендии они приносили с рынка мясные обрезки, варили в нашей печи суп. Жарили воблу. Обжигались картошкой. А если мать была дома, просили ее накрутить котлет.
Ко всяким нехваткам мать стала относиться как-то весело: мол, уж таков урок жизни и в ней своя арифметика — решим задачу, легче будет.
Мы не голодали. Тюря всегда была. Рабфаковцы же говорили Сергею, что он живет и спит как барин.
На мне лежало будить «барина». Если же он не хотел вставать, я дергала его за ногу и приговаривала:
— Век живи — век учись! Сам же просил!
Много учебников было у Сергея, но не все. Одолжит книгу — прикрутит ночыо фитиль лампы, чтобы не ярко горела, и всю ночь напролет читает.
Как мы мечтали о «Физике» Краевича! Этот учебник мало у кого был. Он очень дорого стоил. Несколько раз Сергей ходил в город, в частный книжный магазин. Спрашивал «Физику» Краевича.
Продавец протягивал учебник, и Сергей жадно начинал
перелистывать книгу, ловя каждое мгновение, чтобы запомнить то, что ему было нужно. Продавец его уже приметил: «Одну и ту же книгу спрашивает, а не покупает» — и стал отвечать: «Краевича нет!»
Брат перестал расхаживать по комнате; стал молча сидеть над книгами. И мы старались зря не болтать.
Для удовольствия своих друзей-рабфаковцев, следуя примеру какого-то великого грека, Сергей вывесил над дверью объявление: «Не знающий геометрию — не входи в мой дом».
Илья Пахман нерешительно постучался. Он вошел и замешкался, так как не знал геометрию. Его мать мечтала, чтобы он выучился на доктора, ну а если не на доктора, так поступил бы в парикмахерскую: «Хоть халат белый, как у доктора».
Мать Пахмана была недовольна, что сын ее пренебрег белым халатом и решил стать солдатом свинцовой армии труда, так же как и отец. Не так уж долго осталось ждать, когда пойдет он в школу-клуб имени тов. Багинского, не только сам сочинять, но и набирать красные пролетарские слова, разящие всех врагов. А потом... Потом, так же как и Сергей, поступит на рабфак.
Илья как-то особенно стал смотреть на Сергея.
А он пишет, чертит, бормочет что-то... Потом как вскочит, выльет себе на голову кружку воды холодной и снова:
— Даешь науку!
Наступал момент, когда брат потягивался и сладостно произносил:
— Мой мозг получил телеграмму от желудка: «Пусто». После такой «телеграммы» я начинала шарить, чем бы
накормить Сережку.
Сергей сделает несколько глотков и снова смотрит в раскрытую книгу.
Раньше, замечала я, мать с нескрываемой любовью смотрела на Сергея, только когда он спал. Брат стал рабфаковцем, и она, отступая от своих житейских правил, любовалась им, когда он сидел за книгой. Очень верила, что учение пойдет ему впрок.
В комнате было тихо. Мать все поглядывала на Сергея, а потом, как-то смущаясь и виновато, сказала:
— Все про себя да про себя. Вслух бы почитал. И мне интересно.
Бывало, Сергей в подходящее настроение специально для мамы начинал «распевать» науку: теоремы и правила орфографии. И приговаривал:
— Да! Да! Так. Ясно. Двигатель внутреннего сгорания. Есть. Да здравствует линия высокого напряжения!
Домовладелка Котя остановила как-то маму на дорого, затеяла с ней разговор и будто невзначай спросила:
— Что это ваш Сергей военную службу оставил, на разбойничий факультет поступил?
Мама ей на это ничего не ответила.
Помню, после получки пришла она позже обыкновенного. Сразу было видно, что она чем-то возбуждена, но старается сдержаться. Положила сверток на стол, с таинственным видом посматривала то на меня, то на брата, то на сверток.
— Ну, разверни, — сказала она Сергею.
Брат раскрыл сверток. Вначале будто испугался, а потом ласково посмотрел на маму. Так растерялся, не знал что и сказать. Крикнул радостно:
— Великая, славная наука Физика! Ай да мамаха!
И я прочитала на новенькой, чистой обложке толстой книги: «К. Краевич. ФИЗИКА».
Сергей схватил книгу и начал кружиться с нею по комнате. Стул свалил и тут же ногой зацепил его, поднял и усадил маму на стул...
Как нас взволновала тогда мамина покупка! Первый раз потратила она деньги на книгу. Да еще на какую!
— Это новое издание. Издана не где-нибудь, а у нас в Харькове, — к удивлению мамы, произнес Сергей.— Издана Военно-редакционным Советом Украинского военного округа. Я такую еще не видел.
Сергей листал учебник. И мы с мамой, рядышком облокотившись на стол, разглядывали рисунки...
Брат снова бережно завернул «Краевича» в бумагу и положил на комод, на самое видное место.
Осталась я одна в комнате и развернула книгу. Думала: «Может, и мне понадобится, когда начну учиться». Ничего не могла понять в законах механики, зато все поняла про грозу, заморозки и иней; читала и перечитывала описание электромагнитного телеграфа, родной мне морзянки.
...Все оказалось проще, чем думала.
И четырнадцать исполнилось, и в телеграфную школу приняли.
Когда держала экзамен, призналась, что уже работала на «Морзе». Бригадир проверил и сказал: «Рука не сбита».
Но я ничего не знала об основах электротехники, тарифах, о телеграфных правилах. Все это должна была учить.
В те дни мне казалось, что все люди такие же счастливые, как и я. Радуйся за дочку, отец!
Вахтер, которому я показывала пропуск, улыбался мне еще издали. Только потом я поняла: улыбался он потому, что хорошо знал Степана Митрофановича.
Когда я вошла в малую аппаратную, вспомнила, как впервые побывала здесь совсем маленькой.
Сколько сильных и быстрых рук на ключах и клавишах!
Весело стрекотали блестевшие золотой медью морзянки. Вились бумажные ленты. Тысячи точек и тире догоняли друг друга, торопливые, трепетные...
Закрыла глаза и прислушалась к знакомому металлическому шуму. «Мои хорошие!» — подумала я.
Поют «Морзе» — телеграфные соловьи. Стрекот рассыпается на тысячи точек и тире, а где-то там они снова превращаются в слова и мысли.
С первых дней меня стали допускать к аппаратам.
Один из них я особо заприметила и запомнила номер провода. Точки и тире бежали по нему в почтово-телеграф-ную контору белокаменного городка... Меня тянуло к этому проводу.
Кто дежурит там? Неужели Зыков? Если бы знал он, кто сидит в Харькове за аппаратом! Он не знает мой почерк... А если бы и знал...
А что, если там Левко? Но даже Левко я не могу настучать о себе. Телеграфные правила запрещают посторонние разговоры. Даже свою фамилию не называют телеграфисты.
Передавала я телеграммы об угле и коксе, об отгруженных шахтерских лампах, а сама будто заглядывала в нутро огромной печи, названной «Всесоюзной кочегаркой».
Были и другие телеграммы, про горе, про радость...
Я была так занята, что часто и времени не хватало, чтобы прибежать домой и что-то проглотить.
К концу дня еле волочила ноги, хотя и обувь не жала.
Я выбежала на улицу. Студеный день обжег не морозом, а вестью. Тревожно, с надрывом гудели гудки. Гул нарастал, становился непрерывным.
Люди бежали, передавая друг другу:
— Нет Ленина!
Горе великой утраты потекло в каждый дом.
Каждый, кто жил тогда, помнит, где застал его самый тяжелый удар. И пережитое не уходит, осталось навсегда, и невозможно выразить его словами.
Я встретила маму на улице. Заиндевевшие волосы выбились из-под платка и развевались на ветру. Мать посмотрела па меня и остановилась. Застыли морщинки. Молча вошла в дом.
Сергей отступил в сторону. Крепко сжал мою руку.
Пришли к нам Тося с отцом. А через минуту показалась и бабка Наталка.
Василь Игнатович ссутулился.
— Ильич... Владимир Ильич! Вел вперед весь мир!.. — начал он и не договорил.
— Убили, убили, супостаты проклятые! Раны его сгубили, пожил бы еще. Ничего, пусть буржуи не радуются! — грозно произнесла бабка и вся как-то выпрямилась...
Я вспомнила, с какой болью говорил отец о разрывных пулях, которыми был ранен Ильич...
Все вместе мы пошли в центр города.
Заснеженная площадь. Над зданием ВУЦИКа спущен огромный траурный флаг.
Сотни, тысячи голов. И все без шапок. Нахмурены лица. Глаза затуманены. Горе бьет по глазам.
Только немногих я видела и знала раньше.
Но и о тех, кого не знала, думала, как о самых близких.
Может быть, и Левко где-то рядом? Он здесь, приехал с Донбасса вместе с отцом-шахтером.
Я поглядела по сторонам. Мальчишки серьезные, умные, выросли, возмужали.
Давит тишина. Но вот со дна народной души полилось над осиротевшей землей:
Вы жертвою пали в борьбе роковой Любви беззаветной народу, Вы отдали все, что могли за него, За честь его, жизнь и свободу!
...Величайшие минуты, когда в Москве, у Кремлевской стены, мир прощался с Лениным, врезались в сердце на всю жизнь.
Мне доверили быть среди тех, кто передавал по телеграфу траурные сигналы.
Раздалась команда:
— По местам, каждый к своему аппарату!
Сердце усиленно бьется. Рука на телеграфном ключе. Глаза прикованы к часовой стрелке.
Ровно в 16 часов застучали разом все аппараты.
По всем проводам страны понесся траурный сигнал:
«Встаньте, товарищи! Ильича опускают в могилу».
Как стружка из рубанка бежит лента...
Отстучал телеграфный ключ.
Вопль траурных гудков и сирен ворвался с улицы в тишину аппаратной.
В эти минуты по всей стране остановились с разбегу поезда, застыли станки... Замерла жизнь.
Мы встали. Молчали. Не двигались.
Казалось, отец со мной рядом.
Я слышала его голос: «Держись, дочка, держись! Иди помогай!»
Снова рука легла на ключ.
16 часов 4 минуты.
Новый сигнал:
«Ильич умер — ленинизм живет!»
Аппараты смолкли вместе с гудками.
Наступила особенная тишина.
Слова сигналов и перерыв в четыре минуты мы занесли в аппаратный журнал.


Нила, Лена, Сергей и Галя. Около 1912 г.

Сергей и Галя с отцом, Степаном Митрофановичем Гавришевым. 23 ноября 1914 г.

Галя идет в школу.